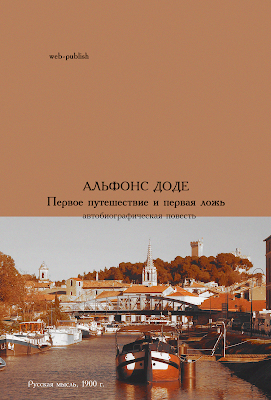Введение
Сколько картин, сколько воспоминаний. Я могу сказать, как Бодлер: мне кажется, я прожил тысячу лет - так много у меня воспоминаний. Некоторые из них такие ясные и отчетливые, другие беспорядочные, отрывочные, несвязные.
Сколько картин, сколько воспоминаний. Я могу сказать, как Бодлер: мне кажется, я прожил тысячу лет - так много у меня воспоминаний. Некоторые из них такие ясные и отчетливые, другие беспорядочные, отрывочные, несвязные.
Постараюсь быть искренним и не слишком много сочинять; лучше буду оставлять пробелы на начатых страницах.
Так, например, о первом вечере, с которого начинается мой рассказ, у меня сохранилось лишь воспоминание, что происходит он в Бокере (Beaucaire), на берегу Роны, - в Бокере, уже опустевшем от прежних громадных ярмарок, с его нежилыми домами, над которыми, раскачиваясь от ветра, хлопали дощечки с надписью: «отдается внаймы».
Хозяин гостиницы отвел мне и моему двоюродному брату свою большую комнату, чтобы отделить нас от солдат, обычных посетителей кабачка. Хозяина и его жену - подождите я припомню - звали Тустенами. Они когда-то служили у моих родителей в Ниме, потом обвенчались и купили эту маленькую гостиницу, где в памятный летний вечер я находился со своим двоюродным братом Леонсом* (*Леонс Верме, пропал без вести во время одного из сражений Франко-прусской войны 1870–1871 гг.).
Каким все это кажется далеким, смутным. То, что я, по долголетней привычке, заносил в свои тетрадки, конечно, достоверно, но то, о чем я рассказываю теперь, нигде не записано: происшествие это теряется в отдаленной эпохе детства, похожей на сон. Имя гостиницы? «Белый конь» или какая-нибудь «Красная шляпа», тонувшая во мраке узкой темной улицы, в которой хлопают ставни и завывает ветер.
В дни мистраля он дует в Бокере с такой силой, что от одного дома до другого протягивают канаты, за которые цепляются прохожие. На улице я вижу большое квадратное светлое пятно, отражение нижней залы, где поют солдаты. Эти солдаты возвращались из Крыма...
Теперь я могу восстановить год, к которому относится мой рассказ: это происходило в 1854 или 1855 г. В большой оштукатуренной комнате главное место занимает постель, наподобие корабля, с громадным балдахином из старой выцветшей сине-зеленой материи. Здесь же находится пузатый комод, на котором стоит статуэтка Богоматери, в обществе старого померанцевого букета, покрытого пылью под своим стеклянным колпаком.
В глубокой амбразуре окна, на подоконнике, приютившись между толстых стен, сидят два мальчика за скромной трапезой. Среди этих отрывочных картин почему-то, например, - великая тайна нашей памяти - мне вспоминается скромный ужин: молодая куропатка под зеленым луковым соусом. Трапеза романтическая, трапеза искателей приключения, съеденная в полумраке, отдельно, для того, чтобы нас, детей, не смешать с разгульной толпой нижней залы.
Из этих двух юношеских лиц я никак не могу вызвать образа Альфонса, но зато как отчетливо в таинственном полумраке вижу я снова бледное лихорадочное лицо, острые блестящие глаза его товарища южанина, мальчика 12-13 лет, ловкого, смышленого, с легкой тревожной дрожью губ, с насмешливой загадочной улыбкой в уголках рта, улыбкой, истинное значение которой мне было тогда еще непонятно.
I
Довольно странно, в особенности для Франции, где молодежь не пользуется такой свободой, как в Англии, видеть двух мальчиков, двух лицеистов одних, без родителей и гувернера, в комнате постоялого двора в неизвестной стране. Объяснение этого необычайного явления следующее: мы ехали в Лионский лицей заканчивать наше образование.
Хотя передвижение по железным дорогам тогда уже началось, но оно стоило слишком дорого, и наши родители, не обладавшие большими средствами, решили отправить нас на одном из пароходов, которые плавают вверх по Роне и доставляют товар из Лиона в Марсель. Случалось, что на эти пароходы брали даровых пассажиров. У родителей моих был знакомый капитан, которому они решились нас препоручить.
Рона протекает в Бокере, от которого Ним (Nimes) отстоит на расстоянии 6 часов. Ехали мы в дилижансе по полям, засаженным виноградниками, оливковыми и тутовыми деревьями, через холмистую равнину вдоль дороги, покрытой толстым слоем белой, хрустевшей как снег пыли; облака её задергивают ландшафт пеленой, изменяют его очертания, отчего воспоминания этой первой поездки кажутся мне еще более смутными.
Я помню хорошо лишь одно: чувство гордости, которое я испытывал, ощупывая в кармане своем рекомендательное письмо к капитану Ребулю - вот имя, которое не позабыто, - а также письмо к Тустенам - хозяевам гостиницы в Бокере, о которых я уже говорил. Лишь глубокое доверие к прежним слугам заставило наших родителей отправить нас одних в Бокер, где мы должны были переночевать, так как пароход, отправляющийся из Tour St. Louis, приходит туда в шестом часу утра.
Не спрашивайте меня ничего больше о Тустенах: я не помню ни одной черты их лица, ни одного звука их голоса, я помню только эти два письма в кармане, замирание своего сердца, великую радость первого путешествия, первой свободы и дорогое всем Робинзонам сознание, что, наконец, нога моя коснется палубы парохода.
Нужно вам сказать, что мой родной город находится в необыкновенной стране, спаленной, высушенной мистралем и солнцем наподобие старого остова кашалота, которым, по словам Дарвина, питаются жители Огненной Земли, с триумфом нося жалкие остатки. Этот город очень древний, времен римлян. Когда-то он снабжался водой из Роны, протекавшей по чудным водопроводам, как, например, Pont de Gond, но это было очень давно.
Теперь Pont de Gond представляет из себя лишь исторический памятник, осматривать который англичане всегда считают своим долгом. Очень красивы силуэты трехэтажных сводов, возвышающихся на уровне двух зеленеющих холмов, но, как водопроводы, они больше не действуют, и бедным жителям Нима со времен римлян приходится высовывать язык, мечтая о фонтанах, водопадах и озерах.
Каждый раз на выборах депутаты обещают воду; один хочет прорыть канал, другой устроить водопровод, а их компатриоты, с обычной южанам пылкостью воображения, принимая эти обещания на веру, уж повыстроили фонтаны во всех закоулках города. На площадях стоять бассейны, украшенные статуями работы Прадье (Jean-Jacques Pradier) - львами, дельфинами, тритонами, изгибающимися в водоемах из чудного белого мрамора.
Как только выборы кончаются - депутаты забывают свои обещания; воды нет, бассейны пустуют, дельфины с разинутой и затянутой паутиной пастью зевают на солнце, густая черная пыль покрывает мифологические принадлежности нимф и тритонов.
Мне припоминаются два характерных случая, которые дадут вам некоторое понятие об этой водяной жажде: на ткацкой фабрике моих родителей, находившейся на окраинах Нима, где я родился и о которой мне не раз приходилось говорить в Petit Chose (Роман Малыш, 1868), стояли бассейны-резервуары; рабочие полоскали в них ткани.
Вода в этих бассейнах была масляная, окрашенная в зеленую, желтую, красную краску, и я, как сейчас, помню наше удивление, когда однажды к нам пришел хороший знакомый, отставной старик-офицер, со своим внучонком, которому он хотел дать урок плавания.
- Да где, Боже праведный, в чем? - спрашивает отец.
- В вашем резервуаре!
- Если угодно, вот он, резервуар к вашим услугам, - говорит отец, и я опять вижу удивленную, испуганную голову внучонка, высовывающуюся из пузырей, пробочных поясов и разных каучуковых плавательных принадлежностей, раздосадованную и разочарованную физиономию дедушки, крутящего усы, и всех нас вокруг этой зловонной масляной воды, которой как раз было достаточно для того, чтобы взять ножную ванну. Но какую ванну!..
Другой случай покажется вам еще больше неправдоподобным: я прекрасно помню, что в то время в Ниме не было даже ручейка для прополаскивания белья. Как только выстроили железную дорогу от города до Роны, прачки стали ездить по ней с бельем и корытами.
- Да где, Боже праведный, в чем? - спрашивает отец.
- В вашем резервуаре!
- Если угодно, вот он, резервуар к вашим услугам, - говорит отец, и я опять вижу удивленную, испуганную голову внучонка, высовывающуюся из пузырей, пробочных поясов и разных каучуковых плавательных принадлежностей, раздосадованную и разочарованную физиономию дедушки, крутящего усы, и всех нас вокруг этой зловонной масляной воды, которой как раз было достаточно для того, чтобы взять ножную ванну. Но какую ванну!..
Другой случай покажется вам еще больше неправдоподобным: я прекрасно помню, что в то время в Ниме не было даже ручейка для прополаскивания белья. Как только выстроили железную дорогу от города до Роны, прачки стали ездить по ней с бельем и корытами.
Летом, когда вечером все эти девушки и женщины с их бледно-матовыми и лихорадочными лицами возвращались, нагруженные ворохами белья, толпа стекалась к вокзалу, обступала их и, с наслаждением вдыхая прохладный освежающий запах влажных груд, протягивая к ним горячие, сухие руки, шептала:
- O d’aego, d’aego, о вода, вода.
Если эпизод покажется вам немножко преувеличенным, отнесите это к пылкости воображения вашего друга. Ах, это проклятое воображение! Оно, в этой стране засухи воспитало во мне, ребенке, страсть к воде и морю: я мечтал только о нем. Читал я Робинзона, приключения капитана Гарнерая.
- O d’aego, d’aego, о вода, вода.
Если эпизод покажется вам немножко преувеличенным, отнесите это к пылкости воображения вашего друга. Ах, это проклятое воображение! Оно, в этой стране засухи воспитало во мне, ребенке, страсть к воде и морю: я мечтал только о нем. Читал я Робинзона, приключения капитана Гарнерая.
Этот художник-моряк, объездивший простым матросом во времена революции и империи много стран, попав в плен к англичанам, записал свои страдания на понтонах Портсмута. Кроме того, любимым моим чтением были романы капитана Мариотта, в особенности его «Midshep Tosy»; я мечтал о нем, об этом морском кадете, ему я отчасти и обязан своими приключениями, о которых расскажу после; ему и юнге, своему товарищу по школе, довольно скверному мальчишке, бездельнику и хвастуну.
Выгнанный родителями из дому за лень, он поступил на пароход юнгой. Звали его Тэном - ничего общего с великим философом, автором истории английской литературы, он не имел; однако, встречая последнего по воскресеньям у Густава Флобера, я всегда невольно вспоминал своего маленького товарища Тэна. Прослуживши юнгой на каком-то неизвестном судне, Тэн отправился в Крым в числе матросов французского флота; там заболел он холерой, выздоровел каким-то чудом и был отослан обратно к родителям на поправку в Ним, где занимал положение блудного сына, накормленного праздничным тельцом.
В своем костюме моряка, с открытой шеей, большим голубым воротником и клеенчатым беретом, окружавшим его голову сиянием, Тэн в продолжение нескольких месяцев был героем города; мы окружали его на бульварах, на прогулках, на музыке, я страшно гордился разгуливать с ним под руку и каждому слову внимал с таким обожанием, что даже теперь у меня остались в памяти некоторые фразы, который он особенно часто повторял.
Когда его спрашивал, например, нравится ли ему морская служба, он всегда говорил: «Слишком много супу на такое ничтожное количество мяса». Я мечтал об этом Тэне, об его Крымских рассказах, о госпитале, о Галлиполи, о морской школе, находящейся теперь в Варне, куда он думал поступить - к несчастью, бедный малый страдал полнейшим отсутствием правописания. Ах, если бы я был на его месте.
Я видел себя гардемарином в голубой куртке, в маленькой плоской шапочке, отороченной золотым галуном. Свои тайные мечты, свои честолюбивые надежды я поверял Леонсу, о котором я уже говорил и с которым мы видались то у нас на фабрике, на Авиньонской дороге (я поднимаю старую пыль моего детства), то у его родных, державших аптеку на маленькой площади, называвшейся врачебной.
О, эта аптека с её розовыми, голубыми стеклянными шарами, от которых по вечерам лились цветные пятна на острые камни маленькой площади, большими витринами, заставленными пузырьками, в которых переливались таинственный вещества. Она занимает в моих воспоминаниях такое же обширное место, как и фабрика; о ней я говорил во всех моих книгах, ее всюду можно найти на страницах Тартарена.
Когда я вхожу в одну из таких аптекарских лабораторий с их острым запахом, я всегда вспоминаю свое детство, аптеку и всевозможные находившиеся в ней лакомства: провансальский изюм, лакрица, лепешки, тесто из розового просвирника и исландский мох. В аптеке всегда было иного народу; дверной колокольчик, в особенности по праздничным дням, поминутно звенел, возвещая о новых посетителях.
Крестьяне юга - большие любители аптечных товаров, они любят разного рода настойки и сладости. Когда урожай на виноград был плох, аптека пустовала; но когда чаны стояли до верха наполненные, крестьяне толпами приходили за бакалейными товарами. Мы большей частью находились в маленьком темном дворике, и там вели беседу с аптекарским учеником, еще совсем молодым человеком; пока он растирал травы в мраморной чашке, я развертывал картины своей робинзонады.
Ученик, пылкая голова, принимал живейшее участие в нашем бреду, бреду, изредка прерываемом звонком. Ах, этот дверной колокольчик, как весело звенел он тогда, теперь в моих перескакивающих воспоминаниях он гремит, как навешанный на шею бубенчик.
Маленький Леонс в эту эпоху тоже посещал Нимский лицей вместе со мною. Я имел на него большое влияние: он был мальчиком смышленым, но страшно избалованным своей матерью - вдовой. Мое относительное превосходство происходило не от разницы лет, так как я был лишь годом старше его, но от того, что я шел классом выше.
Маленький Леонс в эту эпоху тоже посещал Нимский лицей вместе со мною. Я имел на него большое влияние: он был мальчиком смышленым, но страшно избалованным своей матерью - вдовой. Мое относительное превосходство происходило не от разницы лет, так как я был лишь годом старше его, но от того, что я шел классом выше.
Так как мы очень любили друг друга, то мне не стоило большого труда настоять на том, чтобы увезти его с собою в Лион. Мать беспрекословно исполняла все его желания. И вот почему Альфонс и Леонс сидели на краю подоконника в гостинице, за холодною куропаткой под зеленым луковым соусом, и глядели перед собой на черные стены, испещренные какими-то иероглифами и являвшиеся яркой противоположностью воздушным замкам и смелым планам, наполнявшим в этот вечер их молодые головы.
До которого часа просидели мы? - вот чего я не могу вам сказать, но вы легко вообразите себе нашу радость, наши козлиные прыжки, глухое биение сердец при мысли об этом пароходе, на который мы должны были завтра вступить. Поминутно я ощупывал карман своей курточки, чтобы убедиться, там ли заветное письмо к капитану.
- У тебя оно? - спрашивал с беспокойством Леонс - и с надменной улыбкой Альфонс отвечал:
- У меня.
Сознание моего превосходства над этим юным Телемаком, отданным на попечение моей мудрости ментора, уже наполняло меня чувством гордости; оно поднималось еще в неопределенной форме, как грозовая туча на горизонте. Эта, чудная ложь в продолжение нескольких дней должна была изменить всю нашу жизнь.
II
О, какая была Рона величавая, прекрасная в это утро: голубая, волнующаяся, как море. Под могучим дыханием мистраля она быстро несла свои воды, плескаясь о нескончаемые быки мостов; сначала шел мост Бокера, самый большой во всей Франции, - мост, отделяющий Бокер от Тараскона и Лангедок от Прованса, страны тростника, страны каменьев. Утренней колокол звонил на обоих берегах: на колокольне Бокера и на колокольне Тараскона.
Над крышами и высокими рыжими стенами замка короля Рэне блестели белые шпицы. В эту эпоху Тараскон не был еще ничем знаменит: его историческая слава хранилась в архивных бумагах, мой друг Тартарен тогда еще не появлялся на свет; и в то утро, расхаживая с Леонсом по набережной, любуясь расстилавшейся передо мной картиной, чудным зрелищем Тарасконского города, раскинувшегося на другом берегу, я не подозревал, что в один прекрасный день воображение мое создаст тип юного героя, охотника на львов, горного туриста, бесподобного колонизатора, «необыкновенного Тартарена».
Вслед за двумя колоколами и другие повсюду радостно отбивали пять часов. Несмотря на то, что солнце стояло высоко и начинало парить, на берегу Роны было прохладно. Дыхание мистраля сильно, но не так резко, как его сестры трансмонтаны, дующей с северо-востока и приносящей с собой холод снегов.
На пристани народу было мало: два-три носильщика, игравших в пробку, солдаты в зеленых балахонах, расхаживавшие взад и вперед, группы путешественников из пяти-шести человек, солдаты в красных шароварах, женщины, дети, обернутые в одеяла и шарфы, - все, как и мы, постукивали подошвами о широкие береговые плиты в ожидании парохода, поднимавшегося вверх по Роне из Tour St. Louis.
– О, «мостр», как он запоздал, этот пароход, - сказал вдруг подле нас голос осипшего петуха, голос хрупкого мальчика, у которого виднелись лишь кончик носа и слезливые глазки. Молодому человеку, очевидно, хотелось говорить, и я не преминул воспользоваться представлявшимся случаем.
– Против течения Роны трудно плыть, колеса плохо работают, - сказал я. Мой уверенный тон привлек внимание другого мальчика, брата первого, одних с ним лет. Он бросил на меня удивленный взгляд и, подойдя к нам, спросил:
- Вы, кажется, смыслите по морской части? Может быть...
Я прерываю его и говорю:
- Я еду из морской Варнской школы со своим младшим двоюродным братом Леонсом. Какой черт дернул меня дать этот ответ? Кто мне его шепнул? Громадное ли жаркое солнце, диск которого мало-помалу выступал из розовой утренней мглы, или ты, великий мистраль, опьянивший меня запахом трав и воды, который ты стряхиваешь со своих могучих крыльев, а может быть тарасконская атмосфера, в которой таилась душа Тартарена? Кто знает?
- Я еду из морской Варнской школы со своим младшим двоюродным братом Леонсом. Какой черт дернул меня дать этот ответ? Кто мне его шепнул? Громадное ли жаркое солнце, диск которого мало-помалу выступал из розовой утренней мглы, или ты, великий мистраль, опьянивший меня запахом трав и воды, который ты стряхиваешь со своих могучих крыльев, а может быть тарасконская атмосфера, в которой таилась душа Тартарена? Кто знает?
Факт тот, что слова были произнесены и, раз сказав их, я должен был прибавлять другие, такие же ложные, опасные, компрометирующие так как зубчатое колесо лжи уже захватило меня. «Вы из Варны, господин офицер, - почтительно говорит слышавший меня солдат, а я еду из Галлиполи* (*Галлиполийский полуостров, Галлиполи; тур. Gelibolu, греч. Καλλίπολις; в древности — Херсонес Фракийский)».
Невозмутимо, с усмешкой я воскликнул, как будто слыша давно знакомое имя: «А, Галип, Галип! - и, чтобы придать еще больше достоверности моему восклицанию, я прибавил, обращаясь в Леонсу:
- Помнишь, Леонс, в какой мы там были переделке? У Леонса глаза округлились от удивления, но после недолгого колебания он храбро ответил: «Еще бы, я припоминаю, я помню». А подле нас голоса обоих мальчиков, полные восторга и зависти, прошептали разом: «О, эти мостры!»
- Помнишь, Леонс, в какой мы там были переделке? У Леонса глаза округлились от удивления, но после недолгого колебания он храбро ответил: «Еще бы, я припоминаю, я помню». А подле нас голоса обоих мальчиков, полные восторга и зависти, прошептали разом: «О, эти мостры!»
При слове «офицер» во мне шевельнулась гордость, но шепот моих двух поклонников еще усилил её, и это чисто местное восклицание «о, эти мостры», которым они преследовали меня в продолжение всего последующего пути, было каждый раз ударом шпоры для моего ребяческого хвастовства и побуждало меня нестись во весь опор по опасной дороге лжи и выдумок.
Внезапно раздался рев сирены и долго звенел, отдаваясь вдоль наложенных береговых камней, этих громадных камней, служащих защитой от наводнений; потом послышались вздохи машины, всплеск колеса, и, окруженный клубами черного дыма, «Боннардель» - так назывался пароход (по имени компании) - причалил у пристани, защищающей Бокер от диких, грозных вспышек его страшного соседа.
Носильщики прерывают свою игру, тамошние чиновники бросаются к пароходу, бочки вина, тюки с товаром, ящики всевозможных размеров, наваленные на пристани, переносятся в трюм корабля со страшными ycилиями мускулов и криками, потому что мы находимся в говорливой суетливой стране Юга.
Что касается бедных путешественников, ими никто не занимается: взойти на пароход позволяют им лишь тогда, когда последняя бочка с маслом и последняя мелочь поставлены на место и крепко привязаны. Путешественники ропщут, но ведь это только простые солдаты, женщины и дети. Гордый сознанием, что у меня в кармане лежит письмо, ободряемый своим мнимым авторитетом офицера, я бросаюсь на мостки в сопровождении Леонса, двух мальчиков из Монпелье и солдат.
Что касается бедных путешественников, ими никто не занимается: взойти на пароход позволяют им лишь тогда, когда последняя бочка с маслом и последняя мелочь поставлены на место и крепко привязаны. Путешественники ропщут, но ведь это только простые солдаты, женщины и дети. Гордый сознанием, что у меня в кармане лежит письмо, ободряемый своим мнимым авторитетом офицера, я бросаюсь на мостки в сопровождении Леонса, двух мальчиков из Монпелье и солдат.
В сутолоке и шуме я отправляюсь на поиски капитана. По книгам и разговорам со своим товарищем-юнгой в моем воображении сложился определенный тип капитана: я представлял его себе в полном вооружении, военной треуголке, с саблей на бедре и рупором в руке или же в бурную ночь покрытым капюшоном, из-под которого блестит позолота подвязанного под подбородком кепи.
Но на палубе «Боннарделя» - ничего подобного: даже на матросах не было ни голубых курток, ни широких воротников, а простые парусные блузы. Все они имели вид простых поденных и рабочих, катающих бочки. Те, к которым я обращался с просьбой указать капитана, не удостаивали меня ответом, озабоченные погрузкой; наконец, один из них, выведенный из терпения, чтобы отделаться от меня, воскликнул:
- Кто? Капитан? Какой капитан? Отец Ребуль? Да вон он, этот толстый старик в картузе. Должно быть, в этом картузе было что-то необыкновенное, так как от всей персоны капитана один он остался у меня в памяти: круглый, громадный, из рыжей вытрепанной волчьей шкуры, с наушниками до подбородка.
И это был капитан. Я вижу, как картуз быстро читает мое рекомендательное письмо, слышу, как он говорит мне охрипшим, грубым голосом, тоном человека, которому решительно ни до кого и ни до чего нет дела: - Спускайтесь в гостиную первого класса, очистите палубу.
К счастью, солдаты были далеко и не слышали, с какой непринужденностью обращаются с офицером. Очистить палубу - это вовсе не так легко было сделать. Что предпринять? Спрыгнуть в воду или же пробраться через угольную яму, куда спускали наполненные маслом плетенки. Черт возьми!
Вся штука заключалась в том, что ни я, ни мой двоюродный брат не были ни на одном судне - ни на большом, ни на маленьком, ни на парусном, паровом, ни даже на гребном. Знание наше ограничивалось книгами, здесь же, на этих мокрых досках все было ново, кончая всплесками Роны, которая под ударами мистраля билась о камни набережной, так что все под нами плясало и танцевало.
Мы пережили минуту страшного колебания, - минуту, не более. Я вспомнил, что где-то читал о том, будто «чистые» пассажиры всегда помещаются на шканцах.
Мы пережили минуту страшного колебания, - минуту, не более. Я вспомнил, что где-то читал о том, будто «чистые» пассажиры всегда помещаются на шканцах.
- Пойдем, - говорю я двоюродному брату, - мы спустимся в гостиную через первый попавшийся люк. Еще одно слово, которое я знал из своих Робинзонов. «О, эти мостры!» - раздался сзади меня детский голос. Мальчики из Монпелье последовали за нами; их так кстати раздавшийся возглас придал мне храбрость и уверенность.
- Что такое люк? - спросил один из них у Леонса. Так как тот затруднялся дать ответ, что казалось крайне странным для морского офицера, я поспешил сказать, что люками называются четырехугольные отверстия, сообщающие палубу с низом.
Как раз в эту минуту мы увидали нечто, похожее на открытое окно чердака. Это было, конечно, то, чего мы искали. Я нагнулся: лестница первого класса не отличалась ни удобством, ни изяществом; почти отвесная, она углублялась в черную дыру, из которой пахло дымом. Как могли дамы спускаться по ней?
Я все-таки решительно ринулся вперед, хотя подушки и чемоданы меня страшно стесняли. Леонс нес корзину с провизией. Испуганный, но подстрекаемый чувством гордости и нашим чином морских офицеров, он волей-неволей следовал за мной. Ноги его давили мои пальцы и ускоряли мой спуск. Мальчики из Монпелье не осмелились последовать за нами и, подняв голову, я увидал наклоненные над черной дырой их наивные бритые лбы, округленные рты и глаза.
Толкнув маленькую дверь, я очутился в какой-то буфетной с засаленными стенами и столами, где суетились три поваренка в белых колпаках и блузах, которые, казалось, валялись в продолжение недели в угольной яме.
Когда я спросил, где гостиная первого класса, один из них ответил:
- Пожалуйте сюда, я могу вас провести в первый, во второй и в третий класс. Этим он, очевидно, хотел дать мне понять, что говорить о первом классе на подобном пароходе было большой наивностью, простительной лишь в мои годы.
- Пожалуйте сюда, я могу вас провести в первый, во второй и в третий класс. Этим он, очевидно, хотел дать мне понять, что говорить о первом классе на подобном пароходе было большой наивностью, простительной лишь в мои годы.
В кухне, через которую мы прошли, лежали куски мяса, корзины с овощами и громадные круглые, как погребальные венки, хлеба, которые лионцы называют коронами. Толкнув другую дверь, я попал в обширное помещение, по стенам которого тянулись кожаные диваны, а посредине стоял длинный стол, окруженный узкими лавками.
Когда мы вошли, несколько человеческих фигур, лежавших на диванах у правой стены, зашевелились, словно проснувшись. Длинный, худой господин с рыжей бородой, с головой, обвязанной синим шелковым платком, концы которого торчали над его лбом, приподнялся, взглянул на меня и, сказав несколько слов на незнакомом языке двум-трем мальчикам, повязанным такими же фулярами, опять улегся, пожав плечами, точно хотел сказать: «таких я много видел, не стоит и беспокоиться».
То, что он сказал потом, наверно, было очень смешно, так как, к моей большой досаде, мальчики стали кататься от смеху на своих кроватях. С большим достоинством, нахохлившись как два петуха, мы сели на противоположный диван; он тоже был занят: нас встретили легкими криками, и из-под кучи одеял высунулись две фигуры хорошеньких, молоденьких женщин в черных платьях, с накинутыми на голову кружевными косынками, с голубыми глазами и мягкими вьющимися волосами над веселыми вздернутыми носиками.
Кто были эти дамы, мы сейчас же узнали по их рассказам; они были уроженки Лиона, две невестки, обе замужем за директорами мастерских, принадлежащих морской компании. Они пробыли несколько дней у своего родственника инженера в Tour St. Louis и, возвращаясь обратно к своим в Лион, накануне вечером приехали в Арль, а так как «Боннардель» ночью не плавал, они ради экономии не поехали в отель, а ночевали на пароходе в гостиной первого класса.
Они очень жаловались, что на пароходе с ними обращаются плохо, обвиняли капитана Ребуля, называли его дикарем, а соседа-англичанина и его учеников, людьми крайне невоспитанными: в продолжение всей дороги те бормотали на каком-то непонятном языке и с ними, как с собаками, не сказали ни слова. Зато они очень обрадовались появлению новых спутников, которые были, но крайней мере, «настоящими французами».
Все это говорилось шепотком в то время, как «Боннардель», хлопая колесами, отваливал от берега, железо визжало, дерево скрипело и в запотевшие стекла окошек виднелась белая удалявшаяся полоса гати.
За откровенность я платил откровенностью; я сообщил дамам, что мы доедем вместе с ними до Лиона, и так как они удивлялись, каким образом мы, такие молодые, путешествуем совершенно одни, я объявил с улыбкой превосходства, что, окончив морскую школу в Варне, мы взяли отпуск для поправки здоровья и, как только он окончится, мы оба поступим на службу, до самого окончания войны.
Вы можете себе представить, какими удивленными, восхищенными, широко раскрытыми глазами смотрели на нас обе лионки: «почти дети и уже офицеры, накануне битвы».
Все это красноречиво говорили их голубые глаза, выражая еще многое другое. Говоря, я воодушевлялся, ссылался на Леонса, как на свидетеля, подстрекаемый в особенности недоверчивыми улыбками англичанина-врага, который слушал меня, разматывая свою ночную повязку.
Все это красноречиво говорили их голубые глаза, выражая еще многое другое. Говоря, я воодушевлялся, ссылался на Леонса, как на свидетеля, подстрекаемый в особенности недоверчивыми улыбками англичанина-врага, который слушал меня, разматывая свою ночную повязку.
И вдруг этот невежда возымел дерзость спросить меня через стол на чистом французском языке, но с английским акцентом:
- Так, так... А не можете ли вы мне сказать, милостивый государь, каких лет вербует французский флот своих офицеров? Тут я мог бы вставить героическое слово, одну из тех знаменитых фраз, который делают личность исторической, но искренность заставляет меня сознаться, что ответа своего наглому собеседнику я не помню.
По всем вероятиям, я промолчал и хорошо сделал. Но совершенно ясно, например, вижу я появление капитана Ребуля в дверях гостиной. Он, наконец, разобрался в письме моих родителей, к которым питал большое уважение, и пришел извиниться за оказанный мне прием.
Он крепко, как мужчина мужчине, пожал мне руку, пожатием, от которого хрустят кости, в особенности такие неокрепшие, какими были мои в эту эпоху, и сказал мне, чтобы я считал себя на пароходе, как дома.
Потом, оглядев гостиную, добавил, что если в продолжение трех-четырех дней путешествия нам будет здесь неудобно спать, он уступит нам половину своей каюты - единственной жилой на всем пароходе.
Я поблагодарил его, уверяя, что мы с двоюродным братом привыкли спать на жестком, и проводил его до дверей гостиной, в глубоком восхищении от его слов, которые придавали мне значительность и окружали ореолом в глазах лионок и в особенности моих врагов, взгляды которых выражали уже некоторую почтительность.
III
В своей молодости Виктор Гюго написал прекрасную историко-легендарную книгу, озаглавленную «Рейн». В ней он оживляет старые камни феодальных замков, грандиозные развалины которых отражаются в волнах величавого зеленого потока.
III
В своей молодости Виктор Гюго написал прекрасную историко-легендарную книгу, озаглавленную «Рейн». В ней он оживляет старые камни феодальных замков, грандиозные развалины которых отражаются в волнах величавого зеленого потока.
Книга, под заглавием «Рона», в которой день за днем описывалось путешествие вверх по реке, представила бы не менее художественный интерес; я говорю «вверх по реке» потому, что если плыть обратно, бурное течение, подгоняемое мистралем, несет слишком быстро и не позволяет ничего рассмотреть.
Я бы мог написать подобную книгу, но для этого пришлось бы повторить путешествие. Не потому, что в то время мои глаза не были раскрыты на красоты природы или нервы мои недостаточно восприимчивы и тонки для того, чтобы улавливать окружающие явления, заставлять меня переживать ощущены радости и горя, - нет, я уже тогда был художником, впечатлительным, как все художники: у меня сохранились воспоминания еще более далекие, чем эти.
Так более полвека, - слышите ли вы, «полвека», - отделяет меня от одного памятного вечера, когда, потерянному няней, с которой я всегда гулял, мне пришлось одному брести по родному городу, чтобы возвратиться на нашу фабрику, - фабрику «Petit Chose».
Мне было тогда пять лет, и все подробности этого путешествия глубоко запечатлелись в моей душе: я помню доносившиеся издали раскаты барабанов, меланхолично отбивавших вечернюю зорю, огненные отблески, вырывавшиеся из кузницы и пылавшие в бледных голубых сумерках летнего вечера; я помню поспешность, с которой семенили мои крошечные дрожащие ноги, подгоняемые страхом и темнотой надвигавшейся ночи.
Я помню радость, охватившую меня при виде длинных белых стен нашего дома, силуэт которого выступал в конце Авиньонской дороги, - эту безумную, живую детскую радость! Одним прыжком взобрался я через три ступеньки входной двери и, приподнявшись на цыпочки до самой задвижки, которую я еле-еле доставал, в опьянении жался губами к жесткому горячему дереву этой двери, как к дорогому, любимому, вновь близкому лицу, которое, мне казалось, уже утратил навеки.
Если тогда, в дни далекого детства, во мне трепетала эта чувствительность, то почему же так неясно запечатлелось во мне волшебное путешествие по Роне, совершенное восемью-девятью годами позже? Я объясняю это себе полным отречением от принятой на себя роли гардемарина, полным отречением от своей личности в интересах морского кадета из Варны.
О, вы, миниатюрные валы Авиньона, города колоколов, высушенные солнцем стены-великаны замка Пап, старый легендарный мост Saint-Bénezet, от которого уцелели лишь три арки, и вы все, полуразрушенные башни, отражающие в голубых волнах ваши кружевные зубцы, ты, замок Воздуха, башня Châteauneuf, - средневековые останки Boche d’Aiglan, как могли остаться незамеченный ваши чудные формы!
О, вы, миниатюрные валы Авиньона, города колоколов, высушенные солнцем стены-великаны замка Пап, старый легендарный мост Saint-Bénezet, от которого уцелели лишь три арки, и вы все, полуразрушенные башни, отражающие в голубых волнах ваши кружевные зубцы, ты, замок Воздуха, башня Châteauneuf, - средневековые останки Boche d’Aiglan, как могли остаться незамеченный ваши чудные формы!
Простите, что, проходя мимо, я не заметил вас и вместо того, чтобы вспоминать прелестные напевы Cour d’Amour, великолепные удары шпаг, уснувшие в ваших сожженных каменных глыбах, я старался лишь изобразить походку старого морского волка с приподнятыми плечами, широко раздвинутыми ногами, подделался под залихватский тон, каким выражался мой товарищ Тэн, говоря о своей морской службе: «слишком много супу на такое ничтожное количество мяса»!
Как только я повторяю эту фразу, передо мной встает смешная фигура человечка, каким я был тогда в своей импровизированной роли, я, нежный, хрупкий ребенок, едва вышедший из-под домашней опеки, которому мать еще так недавно собственноручно завязывала галстук, я старался теперь плевать как можно дальше, ругался, проделывал очень опасную гимнастику, расхаживая по самому краю палубы, или растягиваясь на морском якоре, на самом конце шканца, рискуя при малейшем толчке упасть и неминуемо утонуть в бешено несущихся волнах Роны.
О, эти «мостры»!
Маленькие монпельесцы, с которыми я встретился опять на палубе, не покидали нас ни на шаг: ни меня, ни Леонса; их одобрительные крики еще больше поощряли меня к выходкам. И какая благодарная, доверчивая и восторженная аудитория - зуавы, рядовые, винсенские стрелки, окружившие меня на шканцах, где мы проводили целые дни: они сопровождали хохотом все россказни, принимали на веру самые невозможные небылицы, и не замечая того, доставляли богатый материал моим выдумкам, подтверждали мою ложь.
Канвой всем моим рассказам служили подробности, сообщенные мне Тэном, кое-какие топографические сведены о Варне и Галлиполи, три-четыре вида Босфора и Золотого Рога. Правда, для точной характеристики этого было слишком мало, но каждую минуту знания мои обогащались нашей беседой.
- Скажите, г. офицер, - говорит мне истощенный и дрожавший еще в лихорадке артиллерист. - Так как в это время вы были в Галлиполи, вы наверно встречались с Канробером.
- Ах, да, Канробер! Высокий, совершенно лысый брюнет!
- О, нет, невысокого роста, блондин, с белокурыми усами данными волосами: во всем полку у него одного только такие были.
- А да, да, да! Длинные волосы, белокурые усы, как же!..
И вот мой репертуар обогащен «великолепным» Канробером, с которым я беседовал, который поверял мне свои тайны и т. д. Здесь я должен сделать признание. Несмотря на то, что наивная, простодушная аудитория была ко мне расположена, я счел нужным, подобно самым великим артистам, образовать среди этой без того восторженной публики отдельный кружок особенно преданных мне слушателей, которых я задабривал следующим образом.
Когда мы уезжали на рассвете из Бокера, кто-то из Тустенов, не знаю, муж или жена, сунул нам в руки завязанную целую корзину, говоря:
- Видите ли, г. Альфонс, на Боннарделе есть, конечно, и кухня, и повар, но кухня так грязна, а повар так дорог, что лучше обходиться без них. Берите там вино, что-нибудь горячее утром, если хотите, остальное вы найдете здесь; хватит на всю дорогу!
И правда, добряки наложили в корзину арльских сосисок, коробки анчоусов, черные оливы, маслины, зеленый перец, миндаль, фиги, все эти лакомства, до которых южане-сластены, но не-обжоры так падки. Я тоже ценил по достоинству эти вегетарианские обеды, эту возбуждающую легкую закуску, но ложное самолюбие пересиливало мой природный вкус, и я предпочитал заказывать себе в «гостиной» стряпню повара. О, этот ужасный кондитер-угольщик!
На сомнительной белизне его блузы виднелись следы грязных рук - они напоминали мне руку Магомета, отпечаток которой я видел там, у турок на знаменах, в Варне и Галлиполи. Лионские дамы не отказывались принимать участие в этих трапезах; что же касается содержимого корзины, я раздавал его утром на шканцах и каждый день благодаря этому приобретал новых друзей, восторженных поклонников преданных слушателей, готовых одобрить смехом и криками «браво» самые небывалые вымыслы моей пылкой фантазии.
Не думайте, что я лгал в силу испорченности или каких-нибудь корыстных целей: я лгал потому, что во мне говорило воображение, потому что мне хотелось воплотить, дать жизнь, движение всем моим мальчишеским грезам. Но да смягчится читатель!
Все мои выдумки получали должное возмездие: ни один день нашего четырехдневного путешествия не обошелся без заслуженного нагоняя, без хорошей взбучки. Я вспоминаю как раз четыре происшествия, четыре эпизода, которые я сейчас вам расскажу и за достоверность которых ручаюсь: они ярко выделяются в далеком туманном полумраке моих воспоминаний.
IV
Эпизод первый
IV
Эпизод первый
Где это происходило? Я не могу припомнить ни местности, ни её названия, ни её топографии. Я знаю только, что мы находились еще на юге, потому что ночь была теплая, небо прозрачное, темно-синее, усеянное бесчисленными звездами.
Кроме того, вдоль берега тянулись виноградники с низко срезанными лозами, фиговые плантации, уже исчезающие за известным поясом. Когда настал вечер, Боннардель причалил к пристани: так как плавание по Роне с её бурливым течением и бесчисленными опасными перекатами ночью немыслимо. Пассажирам было разрешено высадиться на берег, с условием всем собраться в палубе к 5 часам утра.
Уставший от своей несмолкаемой болтовни, от вечных морских приключений, обременявших мое детское воображение, я пошел бродить по полям, в сопровождении всей мое аудитории артиллеристов, зуавов и винсенских стрелков. Им, как северным уроженцам, все казалось новым в этой стране способ обработки, севе и уходе за виноградниками.
И, однако, по пути в Крым они проезжали эти равнины по железной дороге, но своими подслеповатыми глазами они ничего не видели, ни на что не глядели, из всего путешествия сохранив лишь воспоминание о какой- либо «осаде» или болезни в госпитале.
Нечего удивляться, слушая, например, подобную беседу:
- В Иерусалиме был один, по прозванию Биду; он взял ложку у сержанта и отдал ее только в Яффе. Ну и была история!
- В Галлиполи меня капитан посадил на три дня под арест.
Пишут они, например, так:
Константинополь, 2 сентября
«Пробыли на бивуаке весь день перед мечетью Св. Софии. Недельным дежурным был Бреве. Ели бараний шашлык с фасолью и баклажанами. Чертовски вкусно».
Дамаск, 6 октября
«Пролежали в розовых лаврах. Потерял сапожную щетку. Два дня осады, и т.д.».
Ну, так вот однажды вечером, в то время как на палубе, освещенной громадным красным фонарем, остались дежурить двое, я, в сопровождении всех моих зуавов, артиллеристов, винсенских стрелков, предпринял вылазку, которую я по-алжирски называл «razzia», с целью накормить своих выздоравливающих солдатиков черными громадными, как Ханаан, гроздями, фигами, провансальскими изюминами, продолговатые красный ягоды которых так соблазнительно мелькают в бледной зелени листьев, всей этой роскошью, давно возбуждавшей их аппетит и воображение, разжигаемое моими рассказами.
Я не знаю, долго ли длилась наша экспедиция, в котором часу мы вышли, когда вернулись? Я помню только далекий звон невидимого колокола, мерцание двух-трех огней, внезапно потухших перед нами на вершине.
Все было погружено в сон. Время от времени раздавался крик совы, шум голышей, катившихся из-под наших ног по крутой неровной тропинке, сдавленный смех одного из моих спутников, которым я, как прародитель, строго-настрого приказал хранить полнейшее молчите. Сдвинув шапку на ухо, с гибкой виноградной лозой в руке, - знак моего прародительства, я шел во главе труппы; Леонс следовал по моим пятам, молчаливый и легкий, как моя тень.
Странный он был, этот маленький Леонс. Пылкий, смелый, готовый разделять все мои сумасшедшие выдумки, все мои фантазии, он всюду и везде хранил на своем бледном, прелестном лице, освещенном парой лихорадочно-блестевших глаз, все ту же таинственную улыбку в уголке губ, странную, полную горечи, грусти и какого-то предчувствия.
Странный он был, этот маленький Леонс. Пылкий, смелый, готовый разделять все мои сумасшедшие выдумки, все мои фантазии, он всюду и везде хранил на своем бледном, прелестном лице, освещенном парой лихорадочно-блестевших глаз, все ту же таинственную улыбку в уголке губ, странную, полную горечи, грусти и какого-то предчувствия.
О, как долго смущала меня эта улыбка моего руга, пока смысл её не стал мне понятен. Но еще не время говорить об этом зловещем дне. Знайте только, что если я так мало говорю о милом товарище, это отчасти его вина, он тоже не любил говорить.
Он принадлежал к той молчаливой породе южан, о которых я уже упоминал, боле пылкой, страстной, подвижной, чем другие, потому что у подобных людей нет предохранительного клапана красноречия. Леонс обладал всепожирающей фантазией, - мечты, планы, роившиеся в его голова уже эти годы, проявлялись однако только каким-нибудь движением, внезапно брошенным словом, которым он никогда не давал объяснения.
Я помню, как однажды ночью во время нашего чудного путешествия, когда мы, закинув руки за головы, подняв лица к небу, лежали, растянувшись на палубе, я услышал его тихий, восторженный шепот: «О, Борромейские острова»!.. И мне вдруг показалось, что звезды надо мной вспыхнули, затрепетали и заструились слезами,- почему я не знаю, как и сам он не знал, откуда вырвался у него этот призыв к благоухающим островам итальянских озер.
Но, например, в ночь нашей вылазки ни Леонс, ни я не были настроены настолько поэтически, чтобы расчувствоваться от подобных пустяков. В эти минуты в нас обоих трепетали души морских разбойников, настоящих морских разбойником, сопровождаемых такими же, которых мы вели на осаду виноградников, на завоевание фиговых плантаций.
- Мускат, ребята, настоящий мускат, - крикнул я, приподнимаясь и держа в каждой руке по грозди. Не успел я кончить, как виноградник был разом опустошен, словно тучей налетавшей саранчи. В темноте слышались сдавленные восклицания: «черт возьми, как вкусно, настоящий сахар», хруст сочных твердых косточек.
Поодаль Леонс, взобравшись на фиговое дерево, сбрасывал в протянутые кепи и кепки (красные шапки зуавов) горсти толстых, кровавых, мясистых фиг, которыми солдаты не могли вдосталь наесться, но которым мы, жители юга, предпочитали другие - маленькие беловатые, а также особенного рода крошечный сочный виноград, пропитанный солнцем в своей мятой, тонкой, как в шведской коже, кожуре.
- Да где же эти знаменитая фиги, о которых вы говорили, г. офицер. Их тут нет?.. Как раз в тот момент, когда один из зуавов задал мне этот вопрос, мы шли вдоль старой полуразрушенной стены, через обвалившуюся верхушку которой виднелись дворы с твердо убитой землей, застланные тростниковыми плетенками, с рассыпанными по ним для сушки на зиму белыми фигами.
Одним взмахом своей виноградной лозы я указал на них зуавам и, сопровождая слово действием, перепрыгнул через стену с криком: «на абордаж!» Боже мой, что за грабеж. Кепи, руки, карманы были наполнены. И вдруг желтоватое пламя двух-трех факелов закачалось над землей, пронизало темноту двора, послышались голоса, уськавшие двух громадных горных собак, которые с лаем бросились на нас.
Нужно было видеть, как морской офицер перепрыгнул через стену, а за ним по пятам весь его отряд. Темень, полнейшее незнание дороги стесняли нас в нашем бегстве, и если неприятель не поймал нас, то только потому, что нас было слишком много и что, извещенный «Боннарделем» о роспуске солдат, он знал, где найти воров на следующее утро.
На палубе, когда мы вернулись мокрые, еле переводя дыхание, огни были уже погашены, и все спали, за исключением двух дежурных и маленьких моннельесцев. Они не решились сопровождать нас, но ждали нашего возвращения с тайным предчувствием какой-нибудь катастрофы.
На палубе, когда мы вернулись мокрые, еле переводя дыхание, огни были уже погашены, и все спали, за исключением двух дежурных и маленьких моннельесцев. Они не решились сопровождать нас, но ждали нашего возвращения с тайным предчувствием какой-нибудь катастрофы.
«О, эти «мостры», эти «мостры», говорили в унисон их простодушно-завистливые голоса, когда в темном уголке гостиной я рассказывал им о нашем уже сильно приукрашенном приключении, прислушиваясь к доносившимся до нас осторожным шагам солдат, возвращавшихся на свои места, на цыпочках, как провинившиеся школьники в дортуар после ночной вылазки...
Но какое пробуждение на следующее утро, о, великий Боже!
В пять часов, как всегда, еще окутанный белым речным туманом, прозвонил колокол. Я полуоткрыл глаза и опять хотел закрыть их, прислушиваясь к звучному дрожанью металла по воде, и подумал с наслаждением: «еще можно поспать часика два», как вдруг, к моему великому удивлению, «Боннардель», вместо того, чтоб отчалить после последнего удара, продолжал стоять у пристани.
Но какое пробуждение на следующее утро, о, великий Боже!
В пять часов, как всегда, еще окутанный белым речным туманом, прозвонил колокол. Я полуоткрыл глаза и опять хотел закрыть их, прислушиваясь к звучному дрожанью металла по воде, и подумал с наслаждением: «еще можно поспать часика два», как вдруг, к моему великому удивлению, «Боннардель», вместо того, чтоб отчалить после последнего удара, продолжал стоять у пристани.
На палубе слышалась беготня, из-за перегородки до меня доносились раскаты грубых, раздраженных голосов. Что там происходило? Мне казалось, что я уже где-то слышал эти мстительные голоса недавно, в конце большого темного двopa. Наверно, воры фиг были открыты, и теперь пришли требовать с них убыток за бесконечное количество съеденных «bourgassots».
В этом уже я больше не сомневался, когда открылась дверь, и меня назвали по имени. Капитан Ребуль просил меня тотчас же прийти к нему поговорить. С капитаном шутки были плохи! Теперь он был еще грубее, еще бесцеремоннее, чем в наше последнее свидание. Из-под кроличьего картуза, с опущенными наушниками, глаза его метали стрелы, рыжая борода топорщилась, неслась самая отборная «марсельская» брань.
От крика голос его обратился уже в какой-то хрип. Но еще более, чем его гнев, подействовал на меня бледные, изможденные, жалкие лица несчастных, поднятых от сна солдат, которые стояли теперь перед лицом обличителя и выслушивали полевого сторожа, украшенного бляхой, кепи и саблей. От имени ограбленного общества он пришел требовать правосудия.
Когда я наполовину высунулся из люка, отец Ребуль грозно повернулся ко мне:
- А, вот и вы!.. Так это вас зовут они офицером?!.. Какой такой офицер? Я вас спрашиваю? Ну, хорош же он, этот офицер! Пользоваться простодушием бедняков, уверить их, что фиги, виноград, изюм, гранаты принадлежат первому прохожему.
Не стыдно! Вы знаете, мне сейчас пришлось выложить 22 франка 50 сантимов и то благодаря тому, что добрый Митифио, по прозвищу Пистолет, знает меня с детства и спустил ради меня цену... 22 франка 50 сантимов, слышите вы, 22 фр. 50 сант.!
Гардемарин из Варны поднял голову и гордо дотронулся до своего жилета.
Гардемарин из Варны поднял голову и гордо дотронулся до своего жилета.
- Я могу возвратить вам эту сумму, капитан!
- Я не сомневаюсь, молодой человек, - сказал капитан Ребуль, сразу смягчившись, потому что была минута, когда он сомневался: возвратят ли ему деньги; на «Боннарделе» пассажиры «первого класса» не были богаче «палубных».
- Ну, да все равно, - добавил он в шутливом тоне, - если вы из экономии поплыли на пароходе, то несколько подобных вечеров станут вам дороже, чем место в вагоне.
В душе я был с ним согласен. Я знал, какими трудами были собраны те несколько луидоров, которые родители положили мне в карман. Но ведь нельзя же было покрыть срамом свою голову в глазах монпельесцев, лионских дам, англичанина и его цыплят, которые все окружали меня, взобравшись на ступеньки «гостиной» лесенки. О, это хвастовство!
Ради того, чтоб услышать еще раз шепот восторга, который пронесся по рядам солдат, когда я гордо протянул капитану 22 франка 50 сантимов, я, кажется, готов был отдать вдвое больше. Внезапно на носу раздался удар колокола, на этот раз настоящий. Сирена проревела. Лохмотья белой пены закружились под колесами парохода. «Zou! Отчаливай!» - крикнул хриплый голос капитана.
И, уменьшаясь мало-помалу, стала удаляться деревня, с её полями, тутовыми и плодовыми деревьями, покрытыми роями стрекоз и уже охваченными блеском солнца, под охраной Пистолета, который, согнув спину, перебрасывая с руки на руку монету, взбирался бодрыми шагами но узенькой дорожке меж виноградников.
Эпизод второй
Опять ночное происшествие в такой же смутной рамке, как и первое. Только мне кажется, что берег вымощен красным камнем и что большие барки, груженные этим камнем, стоят в ряд у берега Роны и мешают «Боннарделю» причалить: мы переправляемся по длинным доскам, переброшенными через эти барки.
Эпизод второй
Опять ночное происшествие в такой же смутной рамке, как и первое. Только мне кажется, что берег вымощен красным камнем и что большие барки, груженные этим камнем, стоят в ряд у берега Роны и мешают «Боннарделю» причалить: мы переправляемся по длинным доскам, переброшенными через эти барки.
Я чувствую также, что мы уже не на юге; вечер прохладнее, синева ночи не так глубока, и героиня моя, потому что в этом происшествии у меня есть героиня, уже не носит провансальского чепца, типичного головного убора Лауры де Новь, Лауры Петрарки, который можно встретить в Range, Pont-Saint-Esprit до Montelimar.
Как же были убраны черные косы хорошенькой девушки, прислуживавшей в гостинице, куда явился гардемарин со всей своей компанией? После долгих, долгих лет я опять вижу этот маленький ситцевый чепчик с двумя длинными завязками, развевавшимися за стройным подвижным существом, с золотистой кожей, открытой шеей, стройной фигурой, какие встречаются у девушек ронской долины.
Я вижу снова низкую залу, переполненную каменщиками и матросами, их загорелые лица, освещенные снизу оплывшими свечами, длинные засаленные столы.
При появлении красных панталон, под предводительством странного человечка с залихватски надвинутой на ухо шапкой, с перекинутым через плечо шарфом, каменщики -люди жесткие и грубые, стали ворчать и растянулись на лавках, чтобы не дать вам сесть, но матросы подвинулись и очистили место.
При появлении красных панталон, под предводительством странного человечка с залихватски надвинутой на ухо шапкой, с перекинутым через плечо шарфом, каменщики -люди жесткие и грубые, стали ворчать и растянулись на лавках, чтобы не дать вам сесть, но матросы подвинулись и очистили место.
Чудный народ эти ронские матросы, с их открытым взглядом, искристым как белое вино Condrieu, побережья великой реки Роны, откуда они почти все родом. Во время нашего плаванья на «Боннарделе» я любил день за днем следить за жизнью этих людей, тянувших лямку вверх по Роне бок-о-бок с нами.
Я смотрел, как верхом на мулах, свесив голые ноги, искусно переправляли они в брод сильных животных, тащивших на канатах громадный барки, нагруженные бочками вина и отесанным камнем. Время от времени вожак кричал звонким голосом, смотря по тому, куда нужно было править, направо или налево: «Emperi!.. Riaume!.. Империя... Королевство», чему на морском языке соответствует «Bâbord» и «Tribord».
Это было старинное название, употреблявшееся в средние века для того, чтоб отличить берег Арльскаго государства от Германской империи. О, волшебство этих провансальских звуков, разносимых все так же, как и 600 лет тому назад, ветром Роны. Еще теперь, когда я их слышу (они удержались в употреблении до сих пор), мне кажется, что вся картина вокруг меня как будто расширяется...
Какое впечатление должен быль я произвести в этот вечер на всех этих молодцов? Я, с моими приёмами дерзкого херувима и рассказами, от которых можно было заснуть стоя. Удивляет, каким образом одному из этих колоссов не вздумалось взяться раздавить двумя пальцами назойливого комара, который ни минуты не сидел на месте, кружился и жужжал вокруг столов?
Наверно, мой офицерский чин, сведения, которые сообщали им шепотом зуавы, артиллеристы, товарищи и свидетели всех моих приключений в Варне и Галлиполи, они сами начинали верить в это, что мы там вместе дрались, вся эта фантастическая призрачная легенда, окружавшая славой мою персону, придавала мне в их глазах небывалый вес.
Наверно, мой офицерский чин, сведения, которые сообщали им шепотом зуавы, артиллеристы, товарищи и свидетели всех моих приключений в Варне и Галлиполи, они сами начинали верить в это, что мы там вместе дрались, вся эта фантастическая призрачная легенда, окружавшая славой мою персону, придавала мне в их глазах небывалый вес.
Может быть, только благодаря этому ни один из грубых, ревнивых ухаживателей прелестной девицы, которую я преследовал самым отчаянным страстным флиртом, не переломал мне в концу вечера костей. Эта девушка, племянница хозяина, страшно забавлялась моими комплиментам, маленьким ростом, ужимками влюбленного мальчишки.
Я слышал, как она говорила обо мне матросам: «Он похож на маленького принца», и её ясные глаза смотрели на меня с улыбкой удивления, что еще больше побуждало меня преследовать ее, поддразнивать, как будто и она, как маленькие монпельесцы, крикнула: «о, эти мостры!»
Правда, настоящее чудовище, если бы только всерьез можно было принять воздушные поцелуи, которые я ей посылал и страстный шепот: «Как вы прелестны, дитя мое!.. Как я вас люблю!.. Где могу я это вам сказать более открыто, чем здесь?» Она мне не отвечала.
Я узнал только, что она никогда не выходила одна и что её окно, в котором свет гас позднее всех, находилось в первом этаже, как раз над входной дверью гостиницы. Этого было достаточно, чтобы тотчас же у меня в уме сложились все подробности воображаемого приключения. Здесь я подхожу к самым тяжелым признаниям, от которых я мог бы отделаться запамятованием.
Но нет, я обещал быть искренним и, чего бы то ни стоило моему самолюбию, я сдержу обещание...
Так вот, когда вечер кончился, кабачок был закрыт, мы возвращались на пароход, распевая матросскую песню, которой нас только что научил один из новых друзей:
Laissez les passer,
C'est des mariniers,
Il en viendra bien d'autres
Du beau pays d'Anjou
Qui n'payeront rien et cassé route.
Eh oui! Eh oui!
Et zest, et zest!
Et c'est un pouf!
Et n'y a pas de pouf!
Et allons donc!
Quand â de l'argent Madelon,
Nous t'en collerons,
Quand nous en aurons.
Вдруг перед тем, как мне ступить на мостик, шаловливый чертик хвастовства дернул меня за рукав и внушил мне ужасный план.
- Видите в чем дело, господа, - тихо сказал я Леонсу и двум артиллеристам, оставшимся со мной позади других. Это были мои поверенные, закадычные друзья, те, которых я наиболее щедро из всей компании оделял арльскими сосисками и коробками анчоусов.
- Меня свела с ума эта крошка!.. и каждому отдельно, по секрету, я передал важные сведения, которые Леандр получил от Геро относительно этого, позднее других потухающаго окна, находившегося как раз над веткой остролистника, которая украшала входную дверь гостиницы.
- Черт побери, г. офицер, да ведь она назначила вам настоящее свидание! - ответили артиллеристы, в глазах которых светились зависть и удовольствие. И они схватили меня под руки:
- Марш вперед! Мы вам поможем.
Леонс, хорошо знавший невинность своего бедного двоюродного брата, ужасался и употреблял все силы, чтобы отговорить меня. Сам я, по мере приближения, предчувствуя тысячу опасностей, трусил. Если бы её дядя нас застал? В его волосатых руках циклопа я наверно бы меньше весил, чем крошечный голыш в праще. Но помимо возможности встречи с дядей меня ужасало свидание с самой «крошкой» (крошка была головой выше меня).
Что я ей скажу? Что я буду делать? О, как бы стали смеяться артиллеристы, считавши меня скороспелыми ловеласом, если бы они только знали мою наивность и глупые фразы, которые я мысленно приготовлял, шагая с ними рядом.
- Да куда же вы идете, г. офицер?... Мы уже пришли! - вдруг прошептал один из моих спутников. Я был так занят своей собственной персоной и в проулке было так темно, что я прошел мимо гостиницы, не заметив её. Однако, как раз над дверью горел огонь.
«Крошка» меня ждала. «Хоть бы черт ее унес!» - подумал я про себя, проклиная благоволившую ко мне судьбу; но в моем возрасте хвастовство заставляет совершать героически поступки.
- Да отстань же ты! - прошептал я Леонсу, который отчаянно цеплялся за мой «higlander», так я называл свой шарф.
Самый крепкий из артиллеристов уперся головой в стену, другой сел верхом ему на плечи, и я с трудом взобрался на верхушку этой живой лестницы, задевая по пути громадную пыльную колючую ветку остролистника. Взобравшись, я на минуту остановился, чтоб перевести дыхание и дать успокоиться моему бедному страшно бившемуся сердцу.
- Да отстань же ты! - прошептал я Леонсу, который отчаянно цеплялся за мой «higlander», так я называл свой шарф.
Самый крепкий из артиллеристов уперся головой в стену, другой сел верхом ему на плечи, и я с трудом взобрался на верхушку этой живой лестницы, задевая по пути громадную пыльную колючую ветку остролистника. Взобравшись, я на минуту остановился, чтоб перевести дыхание и дать успокоиться моему бедному страшно бившемуся сердцу.
Ничто не двигалось в доме, фасад которого отвратительно чернел, за исключением молчаливого светлого, неподвижного квадрата над моей головой. Я думал с беспокойством: «Её ли это окно»? Но я не мог в этом убедиться, так как руки мои доставали только до внешнего выступа, который был слишком узок, чтобы служить точкой опоры.
Мне, однако, казалось, что время от времени чья-то тень скользила мимо за окном и что вблизи меня кто-то дышал. Если это была «крошка», почему она мне не отворяла, а если она ничего не слышала, как дать ей знать, что я тут, не возбуждая подозрений дяди?
Прибавьте во всему этому мое далеко не удобное положение на «живой пирамиде», которая ныряла, качалась под моими ногами как спасательная бочка в бушующем море.
Да, для того, чтобы быть героем романа, нужно иметь хороший бицепс, крепкие ноги и храбрость. Два, три раза, сначала тихо, потом погромче я кашлянул. Ответа не было. «Милое дитя, вы тут?» Опять ничего. Тогда отчаянным усилием, рискуя опрокинуть все мои подмостки, я отцепил одну руку и слегка поцарапал стекло. На этот раз задвижка заскрипела, и окно отворилось.
- Это я, не бойтесь! - прошептал я.
И так как, рукам моим теперь было больше опоры, я стал карабкаться в комнату к «крошке», которая не боялась, о, вовсе не боялась.
- Осторожно! - крикнул Леонс, единственный из нас, который видел, что происходило.
В ту же минуту я почувствовал, как меня зацепили, с силой подняли за волосы, и дядя моей возлюбленной, угостив меня страшной пощечиной, выпустил меня на вытянутой руке обратно на мою лестницу из артиллеристов, которая обрушилась, переломившись надвое.
Особенное провидение покровительствует молодости.
Девять минуть спустя я пробрался с Леонсом в гостиную «Боннарделя», правда, немножко помятый, но без серьезных повреждений. И если в эту ночь я долго не мог заснуть, то только потому, что меня терзала мысль, что моя возлюбленная в насмешку назначила мне свидание в комнате своего дяди. Шутка казалась мне весьма сомнительного вкуса.
Эпизод третий
Даму сердца Леонса звали m-me Brouillard - настоящее лионское имя. Моя, не обладавшая, наверно, таким же живописным именем, оставила меньше следов в моей памяти. Если хотите, мы будем ее называть «подругой m-me Brouillard», так как эти дамы всегда путешествовали вместе и редко расставались. О каких же дамах идет речь?
Эпизод третий
Даму сердца Леонса звали m-me Brouillard - настоящее лионское имя. Моя, не обладавшая, наверно, таким же живописным именем, оставила меньше следов в моей памяти. Если хотите, мы будем ее называть «подругой m-me Brouillard», так как эти дамы всегда путешествовали вместе и редко расставались. О каких же дамах идет речь?
Да о двух пассажирках «Боннарделя», которыми я сначала пренебрегал ради моих слушателей на шканцах, но к которым я возвратился после моего неудачного любовного приключения, сделавшегося уже, благодаря артиллеристам, достоянием верхней палубы. M-me Brouillard, с её лионским акцентом, нежным и тягучим, с её томными глазами и склоненными позами хорошенькой виньетки, конечно, более подходила мне, чем моя веселая кумушка, вертлявая, бойкая, со слишком длинным языком и чересчур коротким носом.
Но подобные вещи не приказываются. Как только в гостиной стало известно, что мы ученики морской школы и скоро будем гардемаринами, что в глазах этих дам заслуживало, по крайней мере, хорошую пару усов, выбор m-me Brouillard пал на Леонса, которого она нашла прелестным, какой-то мрачной и роковой прелестью. Что касается меня и моих ухватов «морского волка», они больше нравились её подруге.
Так как погода стояла прекрасная, и голубое небо по-прежнему отражалось в прозрачных струях реки, дамы, исключая часов жары, целый день сидели на скамейке на задней части палубы и занимались рукоделием, глядя, как у их ног тихо развертывались берега Роны, точно клубки разноцветных шелков. У их ног, растянувшись на одеялах в лозах трубадуров, я и мой двоюродный брат обменивались с ними нежными словами и много, обещающими взглядами.
Я, кажется, уже говорил, что, к несчастью, мой двоюродный брат был совершенно лишен красноречия. M-me Brouillard жаловалась на это, но я все объяснил необыкновенным романом, рассказанным на ухо этим дамами, в то время как Леонс стоял, мечтательно облокотившись на сети, висевшие по бортам сура.
Так как погода стояла прекрасная, и голубое небо по-прежнему отражалось в прозрачных струях реки, дамы, исключая часов жары, целый день сидели на скамейке на задней части палубы и занимались рукоделием, глядя, как у их ног тихо развертывались берега Роны, точно клубки разноцветных шелков. У их ног, растянувшись на одеялах в лозах трубадуров, я и мой двоюродный брат обменивались с ними нежными словами и много, обещающими взглядами.
Я, кажется, уже говорил, что, к несчастью, мой двоюродный брат был совершенно лишен красноречия. M-me Brouillard жаловалась на это, но я все объяснил необыкновенным романом, рассказанным на ухо этим дамами, в то время как Леонс стоял, мечтательно облокотившись на сети, висевшие по бортам сура.
Дело было в том, - мы часто потом смеялись, вспоминая роман Леонса, - дело было в том, что дочь одного богатого армянина из Перу, незадолго до своей свадьбы с очень знаменитым пашей, любимцем султана, генерал-аншефом легкой кавалерии, влюбилась в моего прекрасного двоюродного брата, увидев его вальсирующим на вечере во французском посольстве.
Брошенные друг другу взгляды, пучок цветов, пламенные письма, к несчастью, были письма, и вот однажды утром, как раз в тот день, когда было назначено похищение, бедную Намуну нашли обезглавленной в постели, около неё на окровавленной подушке лежал кинжал её жениха, кинжал с золотой ручкой, покрытой рубинами.
После этой ужасной драмы Леонс с отчаянья два раза бросался в Босфор, и мне стоило больших усилий, чтобы спасти его; с тех пор его родители и капитан корабля, директор нашей школы, препоручили мне путешествовать с ним, развлекать его, что я старался исполнить как можно лучше.
После этой ужасной драмы Леонс с отчаянья два раза бросался в Босфор, и мне стоило больших усилий, чтобы спасти его; с тех пор его родители и капитан корабля, директор нашей школы, препоручили мне путешествовать с ним, развлекать его, что я старался исполнить как можно лучше.
Но ничто не могло вырвать этих воспоминаний, и несчастный влачил свое существование с кинжалом в сердце. «Если вы хотите услышать от него нисколько слов, - это относилось к маленькой m-me Brouillard, - то возьмите его за руку и скажите: поговорим немного о Намуне». Тогда вы расскажите мне много об этом вечном молчальнике.
Непосредственная и наивная лионка, как только услышала мою историю, тотчас подошла к Леонсу, который стоял все на том же месте с неподвижным и задумчивым профилем. «Хотите, давайте поговорим немного о Намуне», - сказала она растроганным голосом.
Непосредственная и наивная лионка, как только услышала мою историю, тотчас подошла к Леонсу, который стоял все на том же месте с неподвижным и задумчивым профилем. «Хотите, давайте поговорим немного о Намуне», - сказала она растроганным голосом.
Мой кузен не знал, что ответить, я еще не успел его предупредить, а имя Намуны он слышал в первый раз, но не даром он был южанин. Привыкнув с начала путешествия к моим импровизациям, он не выказал ни малейшего удивления, а только отошел, горестно покачав головой. M-me Brouillard возвратилась к нам с тяжелым вздохом:
- Бедный! Кинжал поднимается к его сердцу, душит его, мешает ему говорить.
Часто потом я спрашивали себя, кто были в действительности эти лионки, выдававшие себя за жен богатых торговцев шелками на площади Терро. Если подумать хорошенько, то роман Леонса и Намуны не был более неправдоподобен, чем их истории. Трудно себе представить двух дам из лионского общества, такого богатого и чопорного, путешествующих вперемежку с кипами товара на грузовом пароходе.
Часто потом я спрашивали себя, кто были в действительности эти лионки, выдававшие себя за жен богатых торговцев шелками на площади Терро. Если подумать хорошенько, то роман Леонса и Намуны не был более неправдоподобен, чем их истории. Трудно себе представить двух дам из лионского общества, такого богатого и чопорного, путешествующих вперемежку с кипами товара на грузовом пароходе.
А если бы вы видели жалкие платья этих важных дам, тонкие, как папиросная бумага, ватер-пруфы, которые они накидывали себе на плечи, когда слишком сильно дул мистраль, и меланхоличную корзину, в которой они сохраняли свои дорожные припасы, скудно возобновляемые каждый вечерь на остановках.
Теперь, на расстоянии, меня поражают все эти подробности, их манера, физиономии; они так отчетливо сохранились в моей памяти со многими другими, еще более значительными. Так, например, у дам была смешная и вульгарная манера говорить: когда они смеялись, то закрывали рот рукой.
Теперь, на расстоянии, меня поражают все эти подробности, их манера, физиономии; они так отчетливо сохранились в моей памяти со многими другими, еще более значительными. Так, например, у дам была смешная и вульгарная манера говорить: когда они смеялись, то закрывали рот рукой.
В спорах M-me Brouillard ежеминутно повторяла: «Я вам не говорю противное», а «моя», когда повар, о, отвратительная личность, подавал нам утренний кофе с молоком, «моя» никогда не забывала сунуть остаток сахара себе в карман, говоря, что лучшее средство от желудочных схваток, это немного капель «живительной влаги» на сахаре.
Почему все эти подробности, которые я так ясно вспоминаю теперь, тогда ускользали от меня? Каким образом я - сам лгун - мог быть до такой степени наивным и доверчивым? Должно быть, это происходило оттого, что моя собственная персона меня всецело поглощала, уничтожала во мне способность наблюдения, или еще потому, что моя ложь, как я уже говорил, была совершенно ребяческая и не содержала в себе никакого злого умысла.
Этими дамами, кумушками, женами ремесленников, руководило очень понятное желание доставить себе несколько дней удовольствия за счет двух морских кадетов, желание вполне позволительное. Вот как я объясняю себе нашу взаимную доверчивость. Кроме лионок, пассажирами задней палубы были англичанин, тот, кого мы называли англичанином, сидевший против нас на лавочке со своими тремя мальчиками.
Он им рассказывал о странах, мимо которых мы проезжали, их легенды, историю старых феодальных камней, стоявших на берегу большой голубой реки. Тут также находились маленькие монпельесцы, к которым я и мои слушатели на шканцах относились с пренебрежением. Они не покидали задней палубы, робко переходя от одной лавочки к другой. Никто не обращал на них внимания.
Дамы смотрели на них, как на мальчишек, хотя они и были одного возраста с нами, но ведь не из Варны. Сидевшие против нас находили их невоспитанными и ставили им в упрек их плохое знакомство. Плохое знакомство - были мы. Англичане взялись нам это доказывать с первых дней, поворачиваясь к нам спиной в то время, как я и Леонс изощрялись в утонченности слога у ног наших лионок.
Обида была так чувствительна, в этих четырех нахально отвернувшихся спинах было что-то до такой степени оскорбительное, что я не ног сдержаться, и сделал громко замечание, угрожая подняться и оборвать уши некоторым english’менам, плохо воспитанным, которые... вот... а, в том-то и дело!..
Кроткая m-me Brouillard, очень взволнованная, взяла мою руку в свои серые митенки:
- Оставьте, право, не стоит!
Её подруга, более воинственная, напротив того возбуждала меня, оправдывала:
- Подумайте, моя милая, ведь это гардемарины. Дело идет о чести французского флота!
И правда, я мог подвергнуть себя в честь этого флота, к которому я принадлежал - увы! только в воображении - опасности быть или сильно помятым, или выброшенным за борт. К счастью, в ту минуту, когда я повернулся и встал, скамейка опустела: англичанин и его мальчики исчезли.
- О, эти мостры,- прошептал старший из маленьких монпельесцев, глядя на меня с восторгом.
А Леонс поднял голову и сжал кулаки.
- Они хорошо сделали, что удрали, ети englishmen’ы.
Он весь дрожал от гнева. Чтобы его успокоить, m-me Brouillard тихо сказала:
- Подумайте о Намуне.
Тут младший из монпельесцев со своим смешным акцентом и мигающими бесцветными глазами альбиноса вступил в разговор.
- Вы знаете, это не англичане... Отец из Сен-Бантена, а другие отовсюду понемногу, ведь это не его сыновья, а только ученики, с которыми он путешествует во время каникул. Кажется, он профессором в Париже, профессор не знаю чего...
- Во всяком случай невежливо, - сказал я, возвращаясь на свое прежнее место в ногам m-me Brouillard и её подруги, как будто ничего не случилось.
- Признайтесь, что в своем торжестве я не был нахален.
С этой минуты жизнь на пароходе сделалась невыносима для Варнских учеников, принужденных оставаться всегда на задней палубе «Боннарделя», постоянно сталкиваться с англичанами, я продолжаю называть их так, потому что не узнал их имени.
Встречались мы и на палубе, и в гостиной. Утром, когда дул холодный ветер, все вместе собирались вокруг большого стола, чтобы согреться. На узких ступеньках лестницы толкали друг друга локтями и плечами, взгляды перекрещивались, быстрые острые, как боевые шпаги. Роздых наступал только ночью на остановках, так как обыкновенно англичане спали на берегу в гостинице.
Но с пяти часов они наводняли и шумели в гостиной, без всякой жалости в бедным женщинам, которые спали за большим голубым пологом. Я понимаю - хороший удар тряпкой, ружейным прикладом в минуту сильного гнева, но жить постоянно окруженному ненавистью, вечно помышлять о мщении, особенно когда молод, когда обладаешь характером незлобивым, уступчивым и горишь свойственным всем южанам желанием нравиться, это - пытка, которую я окончательно не переносил.
- Нет, видите ли, mesdames (мы находимся вчетвером в гостиной и кончаем пить кофе с молоком, которым я каждое утро угощаю своих лионок), - нет, если бы не удовольствие путешествовать с вами, я тотчас бы оставил этот деревянный башмак отца Ребуля и вскочил бы в вагон на первой железнодорожной станции.
- Но я думала, что для господина Леонса... - пробормотала подруга m-me Brouillard, указывая на моего кузена кончиком ножа, измазанным в масле.
В самом деле, я забыл, что мы поплыли на ронском пароходе для того, чтобы скрыть наши следы от полиции султана, которая искала Леонса на P.-L.-M. Но, чёрт возьми! Не одна железная дорога существовала, чтобы ехать в Лион. Можно бы было нанять экипаж и путешествовать не спеша.
- Тогда всем четверым! - воскликнула m-me Brouillard, хлопая в ладоши.
- О, это было бы так хорошо... В дороге останавливались бы... красивое местечко... хорошая гостиница.
- Да, но это стоило бы порядочно, - заметила более благоразумная подруга. - Ведь нужно кормить и человека, и лошадь.
- Да нет! Кучера не нужно!
- Да, но это стоило бы порядочно, - заметила более благоразумная подруга. - Ведь нужно кормить и человека, и лошадь.
- Да нет! Кучера не нужно!
- А кто же будет править? - спросили она, обертываясь ко мне.
- Я.
- Вы? А разве вы умеете?
- Я только этим и занимался всю свою жизнь!
Как ни привык Леонс к постоянной феерии моего воображены, но и он с удивлением посмотрел на меня. С самого детства мы не покидали друг друга, но никогда он не видал в моих руках ни кнута, ни вожжей. Ну, да все равно! Когда ты южанин...
В это время в дверях гостиной показался капитан; он даже не сделал под козырек:
- Предупреждаю, если вам нужно сделать какие-нибудь покупки, мои милые кошечки, часа через два мы остановимся в Турноне (Tournon-sur-Rhône), чтобы запастись углем.
И он вышел, небрежно бросив мне через плечо:
- Имею честь, господин офицер...
Кланяться подобным образом вошло у него в привычку после моей истории с полевым сторожем. Хотел ли он посмеяться надо мной? Знал ли он мою басню про Варнскую школу? Я не смел его расспрашивать, но каждый раз его «здравствуйте, господин офицер!» - «как поживает господин офицер?» - били меня по нервам.
Дамы тоже жаловались на его фамильярность, особенно нежная m-me Brouillard, такая кроткая, тихая, у которой от каждого грубого слова покрывалась даже краской шейка, беленькая и полненькая, как брюшко молодой перепелочки.
- Какой грубиян, - сказала она, когда капитан вышел, и мечтательно прибавила: - Вот было бы занятно сыграть с ним штуку... «Занятно» - чисто лионское выражение. - Давайте наймем в Турноне экипаж и покинем Ребуля с его «Боннарделем».
Я закричал «браво», а Леонс - еще громче меня. Смеялись, воодушевлялись, каждый представлял себе удивление капитана, все подробности путешествия, такого нового, прекрасного. Мы одни, только одни, без англичан и монпельесцев; остановки на опушках леса, веселые завтраки в старинных гостиницах, где готовят исключительно местные кушанья, и т. д. При этом детские глазки наших важных дам блестели от удовольствия и желания полакомиться.
Вдруг прозвучал пароходный колокол. Через оконце гостиной виден был висячий мост, который соединяет Турнон с Тэном, как наш Бокер с Тарасконом. Только в Бокере мост гораздо красивее, Рона несравненно шире, а небо синее... Одним словом, юг. А теперь юг был далеко.
- Ну, что же мы будем делать? - живо просила «моя». - Должна я отыскать экипаж? Мне бы прямо нужно было ответить «нет», но на это у меня не хватило храбрости. Как только причалили, наши полненькие хорошенькие лионки, с корзинкой в руке, в косыночках отправились в город, взяв с собой Леонса, под предлогом, что он поможет нести их провизию. Еще одна большая неосторожность.
Если бы мы оба остались на пароходе, мы могли бы посовещаться; при виде отчаянного положения наших кошельков мы поняли бы безумие и невозможность нашего проекта. Вместо этого через четверть часа появляются Леонс с подругой m-me Brouillard, запыхавшись, они спускаются в гостиную, где я сидел совершенно неподвижно, глубоко задумавшись, в то время как на палубе со страшным треском грузили уголь.
- Чудесно, чудесно, - повторял мой двоюродный брат, который точно с ума сошел. Больше от него ничего нельзя было добиться. Лионка сообщила мне, что они все нашли: и лошадь, и экипаж на скромных условиях, - о, на весьма скромных условиях!
Нужно только было оставить в залог довольно значительную сумму. Данную сумму, я не припомню, но она настолько превышала содержимое наших кошельков, что я изменился в лице.
- Ведь это только задаток, - успокаивала меня лионка, и я повторял за ней машинально: «правда, это только задаток».
- Ведь это только задаток, - успокаивала меня лионка, и я повторял за ней машинально: «правда, это только задаток».
И опять совершенно запыхавшись, она продолжала:
- Затруднение не в этом... Дело в том, что капитан знает наших мужей, нужно, чтобы он не видел, как мы вместе уйдем с парохода. Вот почему m-me Brouillard ждет меня у каретника. Я скажу старому Ребулю, что моя подруга заболела и что мы пробудем два-три дня в Турноне. Что касается вас, мои милые, то вам не трудно будет найти предлог, а главное - уезжайте в самую последнюю минуту.
- Затруднение не в этом... Дело в том, что капитан знает наших мужей, нужно, чтобы он не видел, как мы вместе уйдем с парохода. Вот почему m-me Brouillard ждет меня у каретника. Я скажу старому Ребулю, что моя подруга заболела и что мы пробудем два-три дня в Турноне. Что касается вас, мои милые, то вам не трудно будет найти предлог, а главное - уезжайте в самую последнюю минуту.
Раньше часа отсюда не тронутся. У вас достаточно времени, чтобы запаковать ваши вещи и заплатить по счету. Вы придёте к каретнику: он живете против церкви св. Юлиана, - вон видна её башня. Мы вас будем ждать с запряженным экипажем. Приезжайте поскорее.
Настоящий чертенок эта лионка! Во время разговора она отцепила голубую штору, завернула в нее шали, косынки, запаковала миниатюрный чемоданчик, в котором прекрасно помещалось все имущество важных лионских дам, и через минуту уже бежала по черной от угля набережной в поисках за капитаном, а я все еще не мог решить: что предпринять?
Я начал с того, что подвел счеты с поваром, причем убедился, что обеды, завтраки и разные мелочи пароходной кухни почти истощили все наши финансы. У нас оставалось самое большее два-три золотых для того, чтобы доехать до Лиона и по приезде не остаться с пустым карманом, если бы почему-либо лицейский воспитатель, который должен был нас встретить, на пристань не приехал.
Но что же теперь делать? Должно быть, дамы были очень богаты. Торговцы шелками с площади Терро - народ богатый, хотя и на пароходе, и на суше за все приходилось платить нам. Все равно, были они богаты или бедны, мы не могли позволить, чтобы за нас платили дамы. Еще одно затруднение: я не умел ни править, ни запрягать, ни распрягать, и на первом повороте дороги всех мог вывалить в канаву.
Но что же теперь делать? Должно быть, дамы были очень богаты. Торговцы шелками с площади Терро - народ богатый, хотя и на пароходе, и на суше за все приходилось платить нам. Все равно, были они богаты или бедны, мы не могли позволить, чтобы за нас платили дамы. Еще одно затруднение: я не умел ни править, ни запрягать, ни распрягать, и на первом повороте дороги всех мог вывалить в канаву.
Нет, все это было невозможно. Нужно скорее написать простую, искреннюю записку, признаться, что я все время врал. Но проклятое хвастовство, которое привело меня на эту глухую улицу, еще раз лишило меня возможности выйти из неё. Стыд удерживал меня. Конечно, получив мое письмо, дамы тотчас бы возвратились, но как с ними встретиться?
Минута отъезда приближалась: последняя телега угля была перегружена на пароход. О, этот меланхоличный мост, отражение которого дрожало в серой воде, зловещий подъёмный кран, торчавший на берегу, как виселица, эта башня св. Юлиана у подножья скалы, - как живо при воспоминании этой картины я снова переживаю те минуты волнения и нерешительности, когда, наклонившись через край парохода, я держал в своих дрожащих пальцах жалкое послание, которое я, наконец, написал, но никак не мог решиться отослать.
- Однако, Леонс, нужно предпринять что-нибудь, - сказал я своему двоюродному брату, когда он еще раз попросил перечитать письмо.
- Ты прав, нужно что-нибудь предпринять! - и, посмотрел на меня со своей странной улыбкой в уголке губ, он сказал:
- Через пять минут будет слишком поздно, они не успеют вернуться.
Минута отъезда приближалась: последняя телега угля была перегружена на пароход. О, этот меланхоличный мост, отражение которого дрожало в серой воде, зловещий подъёмный кран, торчавший на берегу, как виселица, эта башня св. Юлиана у подножья скалы, - как живо при воспоминании этой картины я снова переживаю те минуты волнения и нерешительности, когда, наклонившись через край парохода, я держал в своих дрожащих пальцах жалкое послание, которое я, наконец, написал, но никак не мог решиться отослать.
- Однако, Леонс, нужно предпринять что-нибудь, - сказал я своему двоюродному брату, когда он еще раз попросил перечитать письмо.
- Ты прав, нужно что-нибудь предпринять! - и, посмотрел на меня со своей странной улыбкой в уголке губ, он сказал:
- Через пять минут будет слишком поздно, они не успеют вернуться.
- Это правда, во всяком случае, теперь они уже не могут сесть на пароход.
Я сделал знак стоявшему по близости портовому служителю я протянул ему через борт письмо с адресом каретника, что жил против церкви св. Юлиана.
Динь, динь, динь! раздался сигнал отъезда «Скорее, скорее поспешите». Человек крикнул: «Нужен ли ответ?» Но берег был уже далеко, трубу на пароходе опустили, чтобы проплыть под мостом, и человек увидал только наши отчаянные жесты в клубах чёрного дыма.
Сначала я испытал огромное облегчение и лишь небольшие угрызения совести в глубине души.
В конце концов, у дам были деньги, и они прекрасно могли доехать до Лиона в экипаже или же отправиться дня через четыре ронском пароходе, если на самом деле езда по железной дороге действовала на их нервы. По крайней мере, мы избавились от унизительного объяснение, которое было неизбежно.
Эта мысль была так отрадна, что весь остальной день показался мне чудным сном. Под вечер, когда «Боннардель» причалил к берегу какого-то маленького местечка, проходя мимо нас по палубе, капитан сказал сколько слов об этой бедной m-me Brouillard, и мы узнали от него, что наши важные дамы были замужем за двумя мастеровыми, его хорошими приятелями.
Жены, мастеровых! В таком случае, как выпутаются несчастные из беды? Это было ужасно, что я наделал. Я попробовал утешить себя: то был печальный случай, я думал, что письмо придет вовремя. Но совесть говорила мне: «ты лжешь!» таким убедительным тоном, что я больше не возражал.
Жены, мастеровых! В таком случае, как выпутаются несчастные из беды? Это было ужасно, что я наделал. Я попробовал утешить себя: то был печальный случай, я думал, что письмо придет вовремя. Но совесть говорила мне: «ты лжешь!» таким убедительным тоном, что я больше не возражал.
Всю ночь меня преследовали страшные угрызения: в уголке дивана, где спали бедные лионки, я видел их потертый чемоданчик, их жалкую корзину с провизией. В особенности мне было жаль добрую, тихую m-me Brouillard, с её печальными глазами, которые, казалось, говорили: «О, это нехорошо, очень нехорошо!»
На рассвете я встал и поднялся на палубу; Леонс спал; лихорадка угрызений не смущала его крепкого сна. Там наверху воздух был свеж, небо белое, словно ватное, пропитанное белесоватым туманом. На палубе лежали солдаты; из-под одеял торчали их красные панталоны, что напоминало поле битвы, усеянное телами.
На рассвете я встал и поднялся на палубу; Леонс спал; лихорадка угрызений не смущала его крепкого сна. Там наверху воздух был свеж, небо белое, словно ватное, пропитанное белесоватым туманом. На палубе лежали солдаты; из-под одеял торчали их красные панталоны, что напоминало поле битвы, усеянное телами.
На пристани бегали матросы «Боннарделя», отвязывая отсыревшие канаты. Дежурный пробирался между спящими к колоколу, чтобы дать сигнал, как только наступит 5 часов. И вдруг из-за угла со стороны полевой дороги вынырнула двухколеска, запряженная лошаком и, подъехав на рысях к пароходу, остановилась. Две женщины, укутанные платками, слезли с неё и наскоро расплатились с кучером, крестьянином в блузе.
- Тэ, тэ, M-me Brouillard! - крикнул хриплый голос капитана. Я едва успел проскользнуть на нос парохода, зарыться в какую-то кучу, в то время как дамы спускались в гостиную, не отвечая на любезности капитана.
- Тэ, тэ, M-me Brouillard! - крикнул хриплый голос капитана. Я едва успел проскользнуть на нос парохода, зарыться в какую-то кучу, в то время как дамы спускались в гостиную, не отвечая на любезности капитана.
Минуту спустя Леонс, с лицом волнованным, зловещим и вместе с тем смешным, прибежал ко мне и сталь рассказывать, как жестоко разбудила его подруга m-me Brouillard, столкнув его с дивана, на котором он растянулся.
Бедные женщины, их гнев быль вполне простителен! Подумать только, что для того, чтобы нагнать пароход, им пришлось сделать 12 лье, в двухколеске мясника, ночью, по отвратительной дороге! кроме того, заплатить каретнику и претерпеть тысячу других мелких неприятностей! О, долго они будут вспоминать о гардемаринах!
Бедные женщины, их гнев быль вполне простителен! Подумать только, что для того, чтобы нагнать пароход, им пришлось сделать 12 лье, в двухколеске мясника, ночью, по отвратительной дороге! кроме того, заплатить каретнику и претерпеть тысячу других мелких неприятностей! О, долго они будут вспоминать о гардемаринах!
- А что, m-me Brouillard также негодовала, как и «моя»?- тихо допрашивал я Леонса, в то время как колокол давал сигнал и кругом нас просыпался наш отряд.
- Нет! Она только сказала, что теперь никогда, никогда больше мы не будем говорить о Намуне.
V
Не кажется ли вам это путешествие из Бокера в Лион, длившееся около пяти дней, гораздо более продолжительным. Я думаю, что зависит это не от монотонности декораций, но от постоянного участия одних и тех же двух главных лиц, которые не сходили со сцены? Пейзаж, напротив того, менялся с каждым поворотов колеса.
Я, кажется, уже говорил, что цвет Роны, по мере того, как мы поднимались вверх, из темно-синего переходил в бледно-голубой, потом в серый, всех оттенков платины и стали, что так резко отличает Рону Бокера от Роны Лиона.
То же разнообразие и в берегах: вместо сожженных солнцем порыжевших полей юга, виднелись весёлые фермы в бледной провансальской зелени, тучные луга Ардеши (Ardèche ) и Изеры (Isère), влажная жирная зелень Лиона.
Кто не менялся, так это мы, неисправимые хвастуны и лгунишки. Нам впрок не пошли уроки: после печального происшествия с m-me Brouillard и её подругой мы снова сидели на носу «Боннарделя» и снова, окруженные благосклонными слушателям рассказывали о своем возвращении из Крыма, о своих невероятных приключениях на Востоке, о воинственных, захватывающих приключениях на море и на суше, сопровождая все жестами, прыжками, подражанием крикам животных, шуму, звукам различных инструментов.
Кто не менялся, так это мы, неисправимые хвастуны и лгунишки. Нам впрок не пошли уроки: после печального происшествия с m-me Brouillard и её подругой мы снова сидели на носу «Боннарделя» и снова, окруженные благосклонными слушателям рассказывали о своем возвращении из Крыма, о своих невероятных приключениях на Востоке, о воинственных, захватывающих приключениях на море и на суше, сопровождая все жестами, прыжками, подражанием крикам животных, шуму, звукам различных инструментов.
Чтобы не стеснять нас, оба артиллериста, бывшие нечаянными свидетелями последнего происшествия оставили пароход на последней стоянке; они, наверно, не проговорились, так как я не смог подметить и тени насмешки в простодушных взглядах окружавших меня солдат. «Что я мог им рассказывать, этим молодцам?
Какими необыкновенными подвигами храбрости и ловкости мог я хвастать перед этими людьми видевшими смерть лицом к лицу, и не сморгнувшими перед ней? Я затрудняюсь сказать. Мне пришлось написать столько романов, кроме тех, которые импровизировал тогда вовремя путешествия. Впрочем, я припоминаю кой-какие подробности.
Бог весть откуда прорвавшийся луч освещает эти далекие воспоминания, имя, лицо, которое, мне казалось забытым, утерянным. Это имя - Жосс, которое вам напомнит мольеровского золотых дел мастера, передо мной воскресает жалкое землисто-бледное лицо одного из моих винсенских стрелков, его сожженное алкоголем дыхание, короткую коренастую фигуру с ампутированной рукой.
В это же время при этом имени мне припоминаются сумерки серенького дня. «Боннардель» только что причалил, как вдруг на палубе раздается крик, и он повторяется на сотни голосов: «Жосс упал в воду, Жосс упал в воду!»
Бедняк, по обыкновенно был пьян и, проходя по мосткам, наверно, поскользнулся. И я вижу себя бегающим по палубе, хватающим себя за куртку, как будто, сняв ее, я сейчас брошусь в воду. - Офицер! Пропустите г. офицера - слышу я шепот вокруг себя, так как я немало рассказывал о своих подвигах, как замечательного пловца, о том, что я не раз переплывал Босфор на спине, спасая людей.
Бедняк, по обыкновенно был пьян и, проходя по мосткам, наверно, поскользнулся. И я вижу себя бегающим по палубе, хватающим себя за куртку, как будто, сняв ее, я сейчас брошусь в воду. - Офицер! Пропустите г. офицера - слышу я шепот вокруг себя, так как я немало рассказывал о своих подвигах, как замечательного пловца, о том, что я не раз переплывал Босфор на спине, спасая людей.
Что стоило мне выудить теперь Жосса, спрашиваю вас? Этот вопрос я тоже задавал себе, глядя на воду глубокой быстрой реки, и думал с ужасом: «Что ты будешь делать, несчастный! Ведь ты не умеешь плавать! А всё-таки решайся, если ты хочешь сохранить свою честь в глазах этих людей.
Вперед! Zou!
И мне кажется, что гордость, взгляды, обращенные на мою персону, надежда, что кто-либо меня спасет, могли заставить меня совершить безумный поступок и кинуться в воду, но внезапно на шканцах раздались крики.
- Он его держит! Он спасен! Браво! Спасен!
Я увидал издалека, как на берег вынесли дрожавшего, пускавшего пузыри Жосса, и как его спаситель, окруженный толпой, смеясь отряхивался, приветствуемый криками. Этот спаситель, этот герой был...
Угадайте кто? Господин из Сен-Кантена, мой англичанин. Как при всяком уроке, при всякой крепкой пощечине, которыми судьба наказывала мое хвастовство, так и на этот раз я ходил некоторое время повесив нос и старался держать язык за зубами; по это продолжалось недолго.
Поверьте мне, что Варнский гардемарин еще много рассказывал, жестикулировал на шканцах и что маленькие монпельесцы еще не раз с восторгом восклицали: «о, эти мостры»! Только с минуты спасения Жосса конец путешествия делается спутанным, неясным, как будто с приближением к Лиону, городу двух рек, вечно окутанному туманами и дождями, большое облачко заволокло «Боннарделя» и все, что происходило на его палубе.
Поверьте мне, что Варнский гардемарин еще много рассказывал, жестикулировал на шканцах и что маленькие монпельесцы еще не раз с восторгом восклицали: «о, эти мостры»! Только с минуты спасения Жосса конец путешествия делается спутанным, неясным, как будто с приближением к Лиону, городу двух рек, вечно окутанному туманами и дождями, большое облачко заволокло «Боннарделя» и все, что происходило на его палубе.
Я помню только, что, подъезжая к Mulatière, - этим именем определяют точный пуyкт, где Сона впадает в Рону, немного ниже Лиона - в ту минуту, когда я предавался моим импровизациям, опираясь на Леонса, как на очевидца, англичанин, которого я не заметил и который слушал меня с некоторых пор, сказал с доброй улыбкой:
- Так это правда, молодой человек? Вы из Варнской школы?
- Так это правда, молодой человек? Вы из Варнской школы?
Я обернулся, сверкая глазами, встопорщившись как молодой петух.
- Да, милостивый государь, мы из Варнской школы, совершенно верно.
- И ваш двоюродный брат тоже?
- Да, и он тоже.
- Так отчего на пуговицах его жилета стоит: «Нимский лицей»?
- И ваш двоюродный брат тоже?
- Да, и он тоже.
- Так отчего на пуговицах его жилета стоит: «Нимский лицей»?
И его палец, касавшийся груди Леонса, обличал всю нашу ложь, в то время как общий взрыв смеха пронесся на шканцах. Что касается меня, то нет слова, которое могло бы выразить мое бешенство на англичанина, на Леонса и на моих солдат...
В эту минуту, к счастью, кто-то сказал: «вот и Лион», и в поднявшейся суматохе о нас забыли. Это был последний эпизод нашего путешествия. Пусть читатель не спрашивает, что сделалось с m-me Brouillard и её подругой, с маленькими толстощекими монпельесцами, - со всеми этими китайскими тенями, которые я вызвал из дальнего беглого сна прошлого.
Я повторяю: это не роман. Если моему рассказу не достает конца, развязки, я не могу их придумать. Так, например, я не могу припомнить конца путешествия, отмеченного выходкой англичанина, я оставляю его потонувшим в смутных непроницаемых туманах Роны и Соны. Знайте только, что перед тем, как сойти с парохода, я совершенно случайно узнал имя моего врага-англичанина из Сен-Кантена.
Я повторяю: это не роман. Если моему рассказу не достает конца, развязки, я не могу их придумать. Так, например, я не могу припомнить конца путешествия, отмеченного выходкой англичанина, я оставляю его потонувшим в смутных непроницаемых туманах Роны и Соны. Знайте только, что перед тем, как сойти с парохода, я совершенно случайно узнал имя моего врага-англичанина из Сен-Кантена.
Его звали... и под этим именем, которое слишком известно, чтоб упомянуть его здесь, я прочел с ужасом «Капитан фрегата, председатель конференции в Политехникуме». Капитан фрегата! И перед ним-то Варнский ученик рассказывал и изображал все свои приключения на суше и на море!
ЭПИЛОГ
Если бы m-me Genlis, воспитательница принцев Орлеанских, жившая в конце ХVШ века, имела в распоряжении своем все те воспоминания, которые я перечислил здесь, она наверно бы написала нравоучительно-воспитательную книгу ad usum Delphini под заглавием: «Альфонс и Леонс или жертвы воображения».
ЭПИЛОГ
Если бы m-me Genlis, воспитательница принцев Орлеанских, жившая в конце ХVШ века, имела в распоряжении своем все те воспоминания, которые я перечислил здесь, она наверно бы написала нравоучительно-воспитательную книгу ad usum Delphini под заглавием: «Альфонс и Леонс или жертвы воображения».
Ими мы были, действительно, во все время нашего путешествия и должны были быть в продолжение всей нашей последующей жизни. Четырнадцать, пятнадцать лет спустя, уже взрослыми людьми, мы разговорились о нашем плавании на «Боннарделе».
Леонс приехал повидаться со мной в Champrosay в 1869 г., в дом Евгения Делакруа, где я жил со своей женой и первым ребенком, впоследствии автором «Morticoles» (речь идет о сыне Альфонса Доде – Леоне), который был тогда еще белокурым крошкой в белом костюме.
Мы говорили о нашем путешествии, вспоминали все подробности: разочарования в дороге, честолюбивые мечты, проекты, планы, которые мы строили перед отъездом там, в маленькой аптеке, в то время как колокольчик звенел каждую минуту и раздавался крик:
- Магазин! Кто-нибудь.
- Магазин! Кто-нибудь.
Леонс вдруг сделался серьезным:
- Ах, как мы изменились с тех пор.
- Ты находишь? - смеясь спросил я, - а я, напротив, только хотел заметить, что мы остались все те же.
Я продолжаю то, что начал на «Боннарделе»: выдумываю истории, чтоб посмешить известный кружок людей, а ты, ты продолжаешь представлять и разыгрывать различных героев, менять маски страстей и преступлений.
- Да, но я боюсь, что, как тогда на «Боннарделе», я сохранил пуговицы моего Лицейского мундира.
Нужно вам сказать, что Леонс подвизался на театральных подмостках, но без особенного успеха. Так как он не кончил консерватории, ему пришлось дебютировать в маленьких ролях на различных сценах в парижском округе.
В 1868-69 г. он играл в театре Монпарнасс на улице de la Gatte (Théâtre de la Gaîté-Montparnasse), вместе с одним красавцем, тогда еще совершенно неизвестным, но прославившимся впоследствии - с M. S.
Я не знаю, какой оклад получал М. S. в ту пору, но, поскольку мне помнится, на долю Леонса приходилось 40 франков в месяц, которые получал он очень неаккуратно. Я его однажды спросил: не ждет ли он прибавки?
- Ах, не говори: я получал 40, а теперь меня посадили на 20, - ответил он со своей горькой улыбкой в уголке губ, всегда производившей на меня такое странное впечатление.
Несколько месяцев спустя разгорелась война (франко-прусская война 1870-1871 годов - военный конфликт между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с добивавшейся европейской гегемонии Пруссией. Война, спровоцированная прусским канцлером Бисмарком и формально начатая Наполеоном III, закончилась поражением и крахом Франции, в результате чего Пруссия сумела преобразовать Северогерманский союз в единую Германскую империю), об её объявлении я не могу дать вам никаких подробностей.
В мастерской Делакруа, которая служила мне кабинетом, были эскизы, набросанные рукой художника, и большая декоративная картина Ризнера, родственника Делакруа, набросок одного из плафонов в «Hôtel de Ville», изображавшая «Победу», возносящуюся в светлых одеждах и трубящую в победный рог.
«Я не хочу больше разыгрывать комедию: я хочу вступить в серьезную жизнь. До сих пор я изображал действия других, теперь я буду действовать за свой счет. Я поступил в полк тех Винсенских стрелков, которых мы так любили на «Боннарделе».
Тогда и я вернулся в Париж, перестал писать романы и драмы, перестал рассказывать истории для «шканцев» и в продолжение всей войны прослужил в 96 полку национальной гвардии, в летучих отрядах, делавших вылазки.
Увы! я должен сказать, что те редкие залпы, которые мне пришлось посылать пруссакам, я посылал не из своего батальона, что не в нем слышал свист неприятельских пуль, треск их гранат. Наш батальон оставался в бездействии, не по своей вине, а благодаря парижскому губернатору Трошю, который боялся гражданского элемента и никогда не пускал в ход всего запаса людей, бывших у него тогда в Париже под руками.
Конечно, во все время 6-тимесячной осады я ничего не слыхал о Леонсе, но я часто думал о нем, когда мы стояли на страже и когда на аванпостах, вглядываясь в туманную снежную даль, из которой, казалось, доносились отзвуки перестрелки, говорили: «это приближается Шанзи» или, когда ветер дул с севера: «Федерб (в 1870 году Федерб сначала оставался комендантом Константины (в Алжире), a с падением Наполеона III был назначен командиром северной армии и выдержал с немцами несколько сражений, из которых основные - при Пон-Нуайелле и Сен-Кантене), наверно, не далеко».
Я думал о двоюродном брате, я представлял его себе внезапно являющимся в числе стрелков-освободителей... но каждый раз наступало разочарование. Шанзи не приходил, Федерб был далеко, и когда ворота побеждённого Парижа открылись, у меня все еще не было известий о милом Леонсе. О, не заставляйте меня снова говорить об этих днях: они были слишком зловещие; в воздухе, казалось, носилось предостережение, что ужасные несчастья должны свершиться.
Наконец, я узнал, что сталось с моим бедным другом: Леонс исчез после победы в Бопоме (Bapaume); он находился в армии Федерба в 18-м стрелковом полку, где командовал в первой линии, в качестве отличённого медалью сержанта.
Наконец, я узнал, что сталось с моим бедным другом: Леонс исчез после победы в Бопоме (Bapaume); он находился в армии Федерба в 18-м стрелковом полку, где командовал в первой линии, в качестве отличённого медалью сержанта.
При начале схватки он был ранен в левую руку, но не оставил своего отряда и сделал перевязку тут же на поле битвы, - это рассказывали очевидцы. Вторая пуля опять пробила ему руку, он не мог уже держать ружья и всё-таки остался, чтобы подержать своим примером других.
Когда силы его оставили, он перевесил ружье через плечо и пошел на перевязочный пункт, сказав своим стрелкам:
- Не бойтесь, друзья! Все идет хорошо!
С этой минуты его больше не видали, о нем ничего не слыхали.
Мать его, вдова, долго не получая писем, написала всем начальникам, на все перевязочные пункты, где еще оставались солдаты, потом в Германию, куда, как она думала, сын попал в плен, но отовсюду приходил один и тот же ответ: «нет известий».
- Не бойтесь, друзья! Все идет хорошо!
С этой минуты его больше не видали, о нем ничего не слыхали.
Мать его, вдова, долго не получая писем, написала всем начальникам, на все перевязочные пункты, где еще оставались солдаты, потом в Германию, куда, как она думала, сын попал в плен, но отовсюду приходил один и тот же ответ: «нет известий».
И вот, несчастная мать отправилась в тяжелый путь. Она поехала к Федербу, который из сострадания велел свести ее на поле битвы «Бопом», а оттуда на все перевязочные пункты и госпитали Сен-Кантенского округа (Saint-Quentin). Она вернулась разбитая, обессиленная, проехав на обратном пути в Ним через Париж, тая в сердце молчаливую надежду, в которой она несмела громко признаться, что Леонс неожиданно, внезапно вернется.
- Видишь ли, дитя мое, - говорила она мне, - самое ужасное это - проклятый колокольчик входной двери! О, он звонит десять, двадцать раз в час, он отыскивает меня во всех уголках дома, он заставляет каждый раз вздрагивать мое сердце и бежать в аптеку, чтобы посмотреть не он ли это?
Она вернулась в свой печальный дом. Сколько дней, сколько недель, сколько лет еще продолжалась пытка бедной матери, как долго терзал ее этот колокольчик, вечно звеневший как золотая погремушка надежды, которая не умирает в сердцах матерей? Я часто, часто потом думал об этой трагической смерти.
Очевидно, Леонс был раздавлен и обезображен какой-нибудь гранатой, когда он возвращался с перевязочного пункта. Вместе с другими печальными останками, покрывающими поле битвы, его бросили куда-нибудь в канаву. Если, пораженный три раза в один день, он, упав, почувствовал приближение смерти, мне думается, быстрый преждевременный конец не поразил его.
Тайное предчувствие должно было ему подсказывать его все время. Так объясняю я себе эту бледную улыбку в уголках губ на милом любимом лице, улыбку, смущавшую меня так часто. С ней я вижу тебя, милый товарищ детства, лежащим на полях Бопома, с ней - с этой мрачной улыбкой разочарования, которой запечатлены всё молодые смерти, - являешься ты передо мной в часы раздумья.
Русская мысль, 1900
Русская мысль, 1900