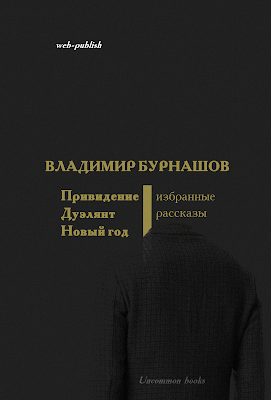В то скучное время, когда в Петербурге ничего другого не было слышно, кроме разговоров о холере, которая, всех ужасала, всем жестоко и надоела, в доме почтенной и милой Госпожи N. как и во многих других, был установлен штраф, коему подвергался всякий, кто только начинал говорить о сем несносном предмете.
Штраф сей достигал до двадцати пяти рублей: сумма довольно значительная, которую, впрочем, употребляли на пожертвования.
Однажды, когда у M-le N. было обыкновенное ее четверговое общество, молоденький, довольно интересный брюнет, Агатов, вздумал, забыв уговор, заговорить об универсальном предмете: и вот на него полился, (выражаясь словами Н. И. Греча) Ниагарский водопад упреков и притязаний на штраф; но хвать в карманах, ан книжник (сброшюрованные векселя) остался дома, а кошелек почти пуст: червончик, который там лежал за час пред сим дружно с гривенничками и с пятачками, спущен за дамской партией у Княгини Вистиной. Как быть?
Дело передано в дамский Ареопаг, и решено, чтобы m-eur Agatoff рассказал какой-нибудь анекдот, en attendant (в ожидании), что он заплатит штраф. Это для него было труднее того, чтоб оплатить штраф монеткой, но, собравшись с духом, он вынул из кармана смятый лист почтовой бумаги.
- Вот, - сказал он, - целая маленькая повесть, которую описывает мне в письме своем мой приятель Левин из деревни. От нечего делать он каждую почту наделяет меня подобными письмами, и сегодня доставил такой анекдот, который я могу предложить обществу для прочтения. Предложение сие принято было a l'unanime (единогласно) и началось чтение. Все придвинули стулья, закашляли, засморкались, зашаркали, и через несколько минут воцарилась мертвая тишина в гостиной.
- Вот, - сказал он, - целая маленькая повесть, которую описывает мне в письме своем мой приятель Левин из деревни. От нечего делать он каждую почту наделяет меня подобными письмами, и сегодня доставил такой анекдот, который я могу предложить обществу для прочтения. Предложение сие принято было a l'unanime (единогласно) и началось чтение. Все придвинули стулья, закашляли, засморкались, зашаркали, и через несколько минут воцарилась мертвая тишина в гостиной.
Агатов читал следующее:
Воспитанный в Москве белокаменной у старушки-тетушки, я перенял несколько ее предрассудков. Гусарская жизнь и вихрь света не помогли мне искоренить некоторых из оных, между коими боязнь к мертвецам была для меня самым несносным, тем более, что нередко я подвергался весьма колким насмешкам многих из моих товарищей; дамы также подшучивали надо мной; но я так и не смог оставить этой слабости.
Последнюю турецкую кампанию я провел очень счастливо: сабля за храбрость и Георгий 4-ой степени украшали меня; по раз, как-то ночью, при осаде Силистрии, после жестокой стычки с неприятелем, я спал спокойно, склонив голову на вальтрап (суконное покрывало, подкладываемое под седло), брошенный на траву моим денщиком.
Вдруг слышу хрип у самых ушей моих; сон воина чуток: я просыпаюсь, при бледном месячном свете вижу, что вальтрап мой лежит на страшном, со стиснутыми зубами трупе, изо рта которого клубится кровь и пена, а глаза вывалились. Волосы у меня стали дыбом, когда я в мертвеце узнал вахмистра Исаева, самого удалого рубаку из целого эскадрона, сражённого турецким ядром, и умиравшего подо мной.
Я сдавил ему грудь; он хрипел, и вот последняя борьба жизни со смертью страшно изобразилась на его искривлённом конвульсиями рте. Его стиснутые зубы, его померкшие, своротившиеся глаза, казалось грозили мне. Я бросился бежать, куда глаза глядят, и на утро нашли меня без чувств у палатки полковника. Жесточайшая горячка заставила меня остановиться на пути славы, и остаться в госпитале, откуда, по выздоровлении переслан я был к родственникам в Москву.
Слишком плохо поправляясь в моем здоровье, не смотря на искусственные в Москве воды, я подал в отставку, и вот живу себе преспокойно, то в городе, то в деревне, и уж месяцев шесть, как совершенно, освободился от моей боязни к мертвецам. Хочешь ли знать, как это случилось?
Имея нужду побывать у одного из моих приятелей, живущего на Пречистенке, в том огромном угловом каменном доме, где мы с тобой так часто веселились у доброй Графини N., я отправился к нему, иду на лестницу, красивую, мраморную, и на первой площадке вижу молодого человека в венгерке, в белой кавалергардской фуражке, в серых рейтузах с красными лампасами, и с хлыстиком в руке.
Имея нужду побывать у одного из моих приятелей, живущего на Пречистенке, в том огромном угловом каменном доме, где мы с тобой так часто веселились у доброй Графини N., я отправился к нему, иду на лестницу, красивую, мраморную, и на первой площадке вижу молодого человека в венгерке, в белой кавалергардской фуражке, в серых рейтузах с красными лампасами, и с хлыстиком в руке.
Он преважно покручивал свои черненькие усики; но вся фигурка его носила какой-то лакейский отпечаток. Иду выше, сворачиваю в длинный, предлинный, тесный претесный коридор, и воображение мое вдруг поражено чрезвычайным запахом ладана. - Верно здесь покойник, - подумал я, - верно, о! страшное предчувствие! Так точно: вот брезжит свет сквозь стеклянную дверь; вот мелькает черный бархатный с серебренными галунами подрясник дьячка, читающего псалтырь.
Невольный трепет пробежал по моим жилам; но глаза не могут отвратиться от сей картины; ноги движутся; я приближаюсь более и более к двери, которой не могу миновать. О, если бы я был близорук; но к несчастью у меня чудесное зрение и вот я могу уже различить гроб; и вот в гробу покойник бледный, с опущенными глазами, с длинной седой бородой, слегка прикрытый тонким покрывалом.
Грудь моя волнуется; я сам не свой: воображение живо представляет ужаснейшую картину: Боже мой! мертвец гонится за мной! Боже мой! он встал! Он встал из гроба и с огромным тяжелым подсвечником в мощной руке плетется по коридору. Трепеща всеми членами, я бегу, куда глаза глядят; вдруг что-то белое на меня натолкнулось, и, взвизгнув, сильно дернуло меня за мой развевающийся плащ.
Конечно: это верно привидение; да, да, вот и белое покрывало. Я падаю без чувств подле мертвеца, который, запутавшись в плаще моем и споткнувшись об скользкую ступень, упал рядом со мной и громко кричит. Не знаю, что происходило около меня, только через несколько минут ли, часов ли, дней ли, право не ведаю, я вдруг вижу себя при ярком свете фонарей и свечек, которые в руках у дворников, лакеев, и служанок, выскочивших из своих углов.
Вышеупомянутый же франтик с лакейской физиономией, крича: негодяй! подлец, - сыпал на меня удары своего хлыста, конец которого до крови рассёк мне щеку. Выведенный болью из беспамятства, я пришёл в себя; кровь гусарская разыгралась во мне и через секунду франтик с усиками лежал подо мной, и я в свою очередь стегал хлыстом, вырванным у него мною, по его курносой физии. Насилу нас разняли. Смотрю: антагонисту моему какая-то миленькая субретка в белом платьице хотела, казалось, поцелуями залечить рану.
Все это дико и темно; но я объяснюсь в двух словах: пораженный жестокой мыслью, что мертвец от меня столь близок, я бежал, как сумасшедший; в это время с узкой лестницы третьего этажа, на который должен я был подняться, выбежала молоденькая девушка в белом платье, которую я и принял за мертвеца в белом саване.
Я упал, и она упала и закричала: на крик прибежал ее любовник, которому она, по-видимому, назначила rendez-vous на лестнице, пользуясь тем временем, что у барыни сидел один из ее племянников. Боясь, как и я, покойников, она решилась однако же, для свидания с милым, пройти мимо коридора; столкнувшись же, со мною, она думала, что столкнулась с самим сатаной; а любезный ее, который был никто иной, как денщик какого-то заезжего в Москву ремонтера, думал, что другой, и к тому ж какой-то франтик осмелился искать нежностей милой Пашеньки, счел за нужное наказать мою мнимую дерзость.
Этот трагикомический переворот был причиной того, что я излечился от болезни, столь странной.
- Вот и вся история, - сказал Агатов: - я оною очень доволен, ибо не должен был выдумывать сам, и слушавшие Агатова также остались довольными этим анекдотом и не напоминали более ему о денежном штрафе, который, по их мнению, был уже взыскан.
Но будете ли вы так снисходительны, читатели?
ДУЭЛЯНТ
Светало. Несколько экипажей стояло в рощице, и кучера тихо между собой говорили о каком-то кровавом деле. Имена графа Хвастицкого и ротмистра Громлина переходили из уст в уста. В отдалении, на поляне, подернутой по золотистому песку светло-зелёной муравой, собралось четверо особ: два дуэлянта и два секунданта.
Граф Хвастицкий, бледный поляк, лет сорока пяти, в синей венгерке, на морщинистом лице которого выражались и досада, и страх, и дерзость, и разврат; величественный и юный Андрей Громлин, казалось, играл в этот раз роль закоренелого разбойника: усы вились вверх, а черные всклокоченные волосы придавали нечто отвратительное его прекрасному и вместе надменному лицу. Впрочем, судя по их наружности, трудно было решить, кто из них более достоин презрения, тот или другой: оба в эту минуту казались существами, отвергнутыми самим небом, и желающими упиться кровью человеческой.
Физиономия секунданта у поляка была незначительна, лицо же русского было молодо и свежо, и не выражало ничего, кроме сострадания и тайного, с тщанием впрочем, скрываемого ужаса. Это был гусарский корнет Ларин, который в первый раз играл такую роль, и единственно, потому что вынужден был на нее действительно наглым поступком графа перед ротмистром, которого он уважал, как храброго и удалого гусара, сподвижника партизанских подвигов Давыдова, Фигнера и Сеславина.
- Что же г. ротмистр, готовы ли вы? - спросил граф, принимая лихой кухенрейтерский (дуэльный) пистолет из рук своего секунданта.
- Застрелить тебя? Готов, - отвечал ротмистр, оканчивая заряжение пистолета, с которым сладить не мог неопытный Ларин.
- Я думаю, - вскричал поляк: - что тебе, мишурный храбрец, весьма приятно быть застёгнутым по горло: небось подбил ватой грудь, вишь какая круглая!
Корнет: - Граф, вы себе позволяете наглости; так не поступают благородные люди. Прошу стрелять пистолетом, а не языком.
Ротмистр: - Ларин, пожалуйста, брат, без морали: он не стоит этого.
Граф: - Оставайся застёгнут: я бью прямо в голову!
Ротмистр (расстёгиваясь): - Вот тебе русская грудь, на! Хоть навылет! А в твоей-то венгерке, столько витушек, плетушек, кнеточек, да снурков, что никакая пуля прямо не врежется, а верно застрянет в этих украшениях. Ха! ха ха!
Граф расстегнулся, и сбросил венгерку, саблю воткнули в землю; секунданты отсчитали в обе стороны по десяти шагов и отступили, сказав в один голос, но с различными чувствами: - стреляйте!
Граф выстрелил первым и мимо.
- Ну, брат, - сказал, улыбаясь, Громлин: - твой кухенрейтер не слишком то исправен.
Корнет: - Ротмистр! Вы не имеете права насмехаться над безоружным…
Прежде нежели Ларин успел кончить свое увещание, Ротмистр, прочитав: un, deux, trois! выстрелил: пуля, взвизгнув, прошипела в воздухе и граф облитый кровью, лежал на песке.
Ночь. Вихрь взметает солому на крыше корчмы; бледный огонек слабо светит в обширной горнице. Здесь кругом стены низке прилавки, а у одного окна стоит длинный стол, небрежно покрытый грязною скатертью, и уставленный несколькими бутылками вина и ликёров; тут же остатки золотистого страсбургского пирога и несколько огромных ломтей вестфальского окорока.
В одном углу лежит что-то длинное на скамье, прикрытое белой простыней; внизу стоит таз, наполненный кровью. Это тело Хвастицкого. За столом сидят Громлин и Ларин; оба они, не смотря на близкое соседство мертвеца, усердно трудятся над запасом, приготовленным догадливым денщиком ротмистра, уже не в первый раз бывшим на таких делах со своим барином, и знавшим все, что требуется в этих случаях.
Три еврея были наняты, и только ожидали окончания саббата, чтобы похоронить тело Хвастицкого. Громлин был более спокоен, чем его молодой товарищ, который беспрестанно поглядывал на дверь, опасаясь, чтобы не вошел кто посторонний; но рейнвейн развязал их языки.
- Я не могу надивиться вашему спокойствию, ротмистр! - сказал Ларин, оканчивая длинногорлую бутылку.
- Я не могу надивиться вашему спокойствию, ротмистр! - сказал Ларин, оканчивая длинногорлую бутылку.
- Что ж тут такого чудесного: я, брат, не в первый раз разыгрываю эти дуэты; но, признаюсь: ни разу не случалось, чтоб кровь имела на меня столь неприятное влияние, как сегодня кровь этого. Ах! чуть было не согрешил против совести: хотев разругать его; но он, кажется, мертв: черт с ним!
Но тем не менее я, имел к этому Графу, с первого взгляда на него, какое-то отвращение; он мне был противен; он, казалось, был виновником моего бесславия!
Ларин: - скажите, что вы чувствовали в эту тяжкую минуту?
Ротмистр (выпив стакан вина) - Гм! Что я чувствовал? Да я ничего не чувствовал. Но если б ты спросил у меня: что я видел, то я сказал бы тебе: я видел самый ад!
Ларин. - Что вы говорите? Ад? Боже мой, Ротмистр! как сверкают ваши глаза. Вы больны!
Ротмистр: - Нет, я не болен; но в эту минуту увидел… увидел… ее.
Ларин: - Кого, ее?
Ротмистр: - Ее, ну то есть ту, которую я люблю больше своей жизни.
Ларин: - Э! э! Не горячая же эта любовь! Да вы свою жизнь в копейку не ставите.
Ротмистр (Улыбаясь): - Насмешник! Нет, она для меня всего милее в свете; она для меня всем пожертвовала; она поклялась мне в вечной любви; а я клялся именем русского гусара, что буду любить ее более всех женщин. Держу ль я мое слово?
Ларин: - Слишком крепко для такого молодца, как вы. Сети Варшавских и Парижских прелестниц не могли уловить вас, так не знаю, кому удастся эта честь. Но как зовут вашу пассию? Позвольте узнать соратнику тайну вашу!
Ротмистр: - Ее зовут Лодоиской.
Ларин: - Лета?
Ротмистр: - Семнадцать.
Ларин: - Блондинка или брюнетка?
Ротмистр: - Ни то, ни другое: у моей Лодоиски каштанового цвета волосы.
Ларин: - Самый романтический цвет!
Ротмистр: - Смейся; а за минуту я был тигром; теперь же снова ягнёнок.
Ларин: - До поры, до времени. Неужели вы до того присмирели, что если б, например, мертвец встал, тo вы не занесли бы руки на эфес вашей солигенской сабли (отличием этих сабель была открытая (иногда - полузакрытая) рукоять со скошенным вперёд навершием в форме миндалевидной плоской оковки)?
Ротмистр (выпивая еще стакан): - Клянусь, что я превратил бы эту мертвечину в ростбиф. Гм! ха! Ха! ха! Всякого другого пожалел бы, к нему имею что-то невыразимое: он мне мерзок. Ах! снова перед глазами мерещится Лодоиска!
Ларин: - Но расскажите, по крайней мере, что это за дивное существо, и как вы с ней познакомились.
Ротмистр (закуривая трубку): - Изволь! Для милого дружка и сережка из ушка. Хоть поутру я едва тебя не застрелил, а теперь снова друзья. Ты добрый малый; дай руку! Открою тебе тайну моей жизни.
Года два или три тому, назад начал Ротмистр: мы шли походом через Вильну, где на одном бале я встретил прелестную, едва развернувшуюся малютку; ей было не более пятнадцати лет. Она меня обворожила и удалой рубака Громлин сделался воздыхателем самым романтическим. Я не мог жить без Лодоиски, а она… она не могла спокойно проводить того дня, когда не видела меня. Несчастия ее сделали ее еще интереснее в моих глазах.
Вообрази: мать ее вышла по страсти за одного молодого человека простого происхождения, против воли своих родственников, которые в Польше весьма сильны и пользуются известностью и знаменитостью. Конрадич, (так имя отца моей Лодоиски) в особенности оскорбил знатных панов тем, что вздумал выйти на дуэль с одним из кузенов своей любезной и убил его. Месть вельможная не имела ни препон, ни границ.
Несчастная Софья Честозильская принуждена была переменить фамилию свою на простое имя г-жи Конрадич, а мужу ее даже невозможно было жить спокойно дома в окрестностях Вильны: он принуждён был скрываться под чужими именами от преследования мстительных родственников, и нередко даже приставая то к толпе нищих, то замешиваясь в табор кочующих цыган, то являясь в виде путешественника. Часто впрочем возвращался он домой, и всегда щедро одаренный женой.
Проведя две или три ночи под мирным кровом, он снова исчезал и убегал, куда глаза глядят. Дочь знала его мало, но любила страстно, и с детской искренностью рассказывала мне о его похождениях, из которых иные мне казались сомнительными и нередко мысли Конрадича носили отпечаток какого-то вампирства, или, контрабандиства.
Я был с Лодоиской в переписке во все время кампании, и по возвращении нашем в Киев, нарочно заехал в Вильну: ах! как расцвела она тогда! какие новые красоты в ней открылись и однажды, как теперь помню, это было в сумерки, в беседке, я пил с ней чай; она взяла бандуру, и мы пели дружно, голоса наши сливались; я сел ближе к ней; дыхание мое занялось; она трепетала в моих объятиях; она горела; я не знал, где я, что я, кто я и через нисколько минут, гром небесный, казалось разразился надо мной! С тех пор я сделался грустен…
Полк наш пришел квартировать сюда, но не веселит меня это соседство: в шумных беседах ищу я утех, и не нахожу их. Сама мысль, что несчастная Лодоиска близко от сюда, приводит меня в трепет. Я еще не решился съездить в их деревню.
Совесть грызет меня: я ищу смерти в дуэлях и не нахожу ее. О, несносное положение, когда живешь для мучений, и не удается умереть для отдохновения. Вот, например, передо мною тело этого несчастного; ведь он тебе кажется виновным?
Ларин: - Без сомнения: он сфальшивил в банке и хотел обесславить и вас и русский мундир дерзкой ложью. Ему поделом!
Ротмистр (горько усмехаясь): - О! ребёнок! А, знаешь ли? Я подвернул ему понтёрку! Зачем ты спросишь, нарочно, чтобы произвести историю и дуэль; чтобы погибнуть от его руки или чтобы его погубить; я уже тебе сказал, что стал его ненавидеть с первой минуты нашего знакомства в игорном доме.
Но когда он упал, знаешь ли, мне показалось, что теплая, розовая кровь страдалицы Лодоиски брызнула мне в глаза. Я это пятно никогда ничем не отмою.
Ларин (снимая со свечи): - Женитесь на ней.
Ротмистр: - Мне жениться? На ней! Ах, Виктор! Я женат!
Ларин (снимая со свечи): - Женитесь на ней.
Ротмистр: - Мне жениться? На ней! Ах, Виктор! Я женат!
Ларин: - Женат?
Ротмистр: - Да, женат, вот уже пять лет; a более трех годов жены в глаза не видел.
Ларин: - Как это?
Ротмистр: - Да, так. Женился я по безумной страсти на одной богатой девушке, весьма избалованной своею бабушкой Княгиней Хлестовой. Гусарский доломан, усы, рьяный конь, прельстили, московскую красотку, и она сделалась моей женой; но недолго мы жили
в ладу: ревность заставила меня иметь дуэль с одним молодым человеком, к которому жена моя верно из избытка супружеской верности или из романтизма, не знаю почему, (была более благосклонна, нежели, сколько надлежало замужней женщине).
Я убил его. Она ухала в деревню, а оттуда отправилась в чужие края, где теперь путешествует под вымышленным именем Княгини Рюссиенской вместе с каким-то авантюристом ренегатом. О, мороз берет по коже от досады! Заешь ли, однако, Ларин, мы напрасно упустили этого полячишку секунданта: он на лихом иноходце удрал невесть куда, и может сделать нам хлопот. Если б поскорей закопать покойника.
Скоро ли кончится этот Саббат? (смотря на часы) Эге! сейчас бьет полночь. Прекрасно. Мы спокойны. Через минуту придут наши факторы и мы сладим дело вместе.
- Да, да, - сказал рассеянно Ларин, - но скажите пожалуйста, Ротмистр, извините mon peu de delicatesse, как зовут этого мерзавца, который путешествует с вашей дражайшей супругой?
- Кажется, Барон фон Вольмар! - отвечал Громлин, выпустив тучу дыма разными узорами.
Все было тихо; но вдруг что-то стукнуло и раздался звон, заставивший вздрогнуть беседующих. Они взглянули на покойника: рука в судорожном движении ударилась о медный таз, покров приподнялся, и взорам их представился страшный, посинелый труп с закатившимися оловянными глазами.
Зубы крепко были стиснуты; пальцы, казалось, двигались; мускулы около глаз имели конвульсическое движение. На рубашке запеклась кровь и снова начала капать.
- Он ожил!- вскричал Ларин.
- Шалишь! - заревел Громлин каким-то адским голосом и опорожнил бокал. - Это нам не невидальщина: стара шутка ! Борьба жизни со смертью! Последняя хрипота! Слышишь ли концерт в его горле? А каково? Ведь это стоит скрипки Липинского? Ха! Ха!
- Он ожил!- вскричал Ларин.
- Шалишь! - заревел Громлин каким-то адским голосом и опорожнил бокал. - Это нам не невидальщина: стара шутка ! Борьба жизни со смертью! Последняя хрипота! Слышишь ли концерт в его горле? А каково? Ведь это стоит скрипки Липинского? Ха! Ха!
Говоря это, он обнажил свою саблю, провел ее раза два над свечей, и с ловкостью Вальвилева ученика, всадил в грудь покойника. Мертвец вытаращил страшные глаза, отворил рот, высунул язык, который, каким-то сверх естественным голосом, прошептал весьма тихо: - Я Барон Вольмар!
- А! - вскричал Громлин с адским смехом махая саблей; очень рад с вами познакомиться; прошу любить и жаловать Ее Сиятельство Княгиню Рюссиенскую. Прощу покорно! Прошу покорно! Ха! ха! ха! Очень рад, что познакомился! И лезвие пошло гулять по телу, от которого немедленно отвалилась рука; потом другая; череп раскрошился… но завесим эту отвратительную картину.
Минут десять тешился Громлин; брызги крови летели во все стороны и железистый запах оной поражал обаяние юного Ларина, который, вынув из под жилета свой образ, молился при этом ужасном зрелище.
В это время у запертых дверей раздался шум и крик: - отворите, разбойники! Громлин с кровавой саблей в руках встал у входа, отвечая: - Если кому надоела жизнь, милости просим! Сюда! - и махал лезвием.
Вдруг двери отворились и при двадцати факелах вбежали в горницу две женщины. Сабля выпала из рук Громлина: то были Лодоиска и мать ее. Страшно сверкая своими огненными глазами, прелестная девушка, как тигрица, бросилась на Громлина, и вскричала:
- Злодей! ты не довольствовался тем, что похитил честь у дочери, и отнял жизнь у отца ее. Говори, варвар! Говори: где мой родитель? Где тот, кого ты убил? Где Граф Хвастицкий?
Ротмистр указал на обезображенные остатки. Жена и дочь бросились на кровавый труп и начали лобызать его. Потом Лодоиска с воплем устремилась на Громлина. Он побежал из корчмы. Лодоиска последовала за ним. Выбежав на дорогу и достигнув крутого берега реки, Громлин стремглав бросился в нее.
- Не уйдешь ты от меня! - вскричала Лодоиска; и с сими словами кинулась за своим обольстителем и убийцей отца своего. Оба они погибли в шумящих волнах Вислы.
Все это рассказано было недавно в одном приятном обществе Полковником Лариным, который за пятнадцать лет пред сим был Корнетом в эскадроне несчастного Громлина.
Все это рассказано было недавно в одном приятном обществе Полковником Лариным, который за пятнадцать лет пред сим был Корнетом в эскадроне несчастного Громлина.
Рассказ Ларина имел на всех слушавших сильное влияние: двое или трое полуобразованных юношей, поправляя свои накрахмаленные галстуки, находили que l'anecdote est a la hauteur du gout du jour (анекдот - шутка дня, недели, месяца, нечто захватывающие воображение); некоторые из дам ахали, а молоденькие девушки пролепетали что-то не в пользу этой повести.
Виршислагатель Рифмович чуть не отдавил передних лапок маленькому шпицу хозяйки, приискивая рифму к романтическому имени Лодоиска; а Викул Харитонович Скупалов, игравший в виси, и прислушивавшийся к рассказу, не смотря на досадные восклицания старой Княгини Тугоуховской, которая с ним была в партии, спросил: - да каким же образом г-жа Конрадич узнала об этом?
- Через секунданта, известного хитреца, который, быв во всех случаях его сподвижником мнимого Графа Хвастицкого, хотел тая за что-то личную злобу против Ротмистра все это обнаружить, чтоб его погубить, а самому в мутной водице рыбку половить. Секундант во всём желаемом успел: Софья Конрадич пошла в монастырь; а он, завладев всем имением, женился на ее горничной, и теперь живет припеваючи.
- Небось, верно в откупа пустился злодей! А что не белорусские ли снял? - заметил откупщик Скупалов.
- Быть может, - отвечал Полковник.
НОВЫЙ ГОД
Лампа бледно освещает мой уединенный кабинет. Все тихо. Я сижу за письменным столиком с пером в руке, которым написал на лежащем предо мной листе белой бумаги большими буквами с верхнего края: НОВЫЙ ГОД. Вот что-то заскрипели стенные часы.
Смотрю на стрелку; она стоит на XII. Вот бьет полночь, пробило, и канул невозвратно 1830 год, богатый происшествиями разного рода: для будущего Историка он будет обильным предметом глубокомысленых изысканий и картин, изображаемых пером красноречивым. Наступил 1831: отклонив от себя всякую неприятную мысль, мы возложим все упования на неисповедимый промысел Всевышнего!
Нам Русским, под сенью Престола; нам Русским, имеющим мудрого, великодушного и попечительного Царя, нечего страшиться: с нами Бог и никто же на Ты. Какая-то сладостная надежда преисполняет в сию минуту мое сердце. Я гляжу спокойно на будущность: кажется, нам что-то улыбается; кажется Россия: покровительствуема самим Небом: претерпев с Верой и великодушием все испытания, на нее ниспосланные, она с новой силой, с новой твердостью, окрепшая славой своего могущества, и украшенная неувядаемыми лаврами, восстаёт и горе всякой неправде.
Я сам не знаю, каким образом начертал эти пламенные строки, излившиеся из моего сердца, обильного ощущениями высокими и восторженными, ибо взяв предметом Новый Год для юмористического Журнала, вздумал писать, увлеченный избытком чувств, какую-то речь.
Это вроде одного из наших знаменитых поэтов, который, начав говорить о свайке (Игра в свайку - русская народная игра, заключающаяся в попадании свайкой - заострённым железным стержнем с массивной головкой - в кольцо или несколько колец, лежащих на земле) или о трепаке (старинная русская пляска, распространённая также на Украине. Основные движения - дробные шаги, притоптывания и присядка с выбрасыванием ног), неприменимо съедет на какую-нибудь философическую мысль Шиллера, Гёте, Байрона или Виктора Гюго, которую прикроет слегка полупрозрачною душегрейкой новейшего уныния, взятой на прокат у Музы приятеля своего.
Ах, вот коснулся я и Литературы: теперь поговорить можно пространнее. Стоит только мне, полному еще звука двенадцати мерных ударов, произведённых боевою стрелкой, - пришпорить коня Фантазии, и занестись, будто под эгидой Лесажева Хромого Беса, весьма далеко. На улице темно, мое окно на двор; ничего не видно: ни возобновления знакомства на Новый Год котки Машки, моей соседки, с лабазским котом Васькой; ни спящих кур, усеявших собой лестницу; ни... словом ничего. Зажгу Фонарь воображения: свети! И вот пошли Китайские тени, точно как в шарманке; воображение беспрестанно покрикивает: Андерманир!
Новый Год встречается всеми в различных положениях: все противоположно; все ново; все пестро. Загляните в этот чулан: здесь на рогоже, умягченной несколько соломой и сеном, лежит старик, не имеющий пропитания дневного.
Полуразбитый кувшин воды и заплесневевший хлеб стоят подле него. Струпья покрывают все его тело, изнуренное болезнью; а верная, старая собака лижет своего господина и охраняет его бренный остов, страшно сверкая глазами и скаля зубы: она готова умереть за своего благодетеля, и служит ему теплым одеялом от непогоды и холода. Собственные преступления повергли его в это положение, и задыхаясь от рыданий, он клянёт жизнь свою. Пораженный звуком башенных часов, он говорит: - еще год мучений; еще год страданий; еще год страшиться людей. Жена! дети! брат! простите! Ах! если б мне скорее умереть!
Ужасный крокодил грызет его сердце; пена набежала на губы. Он с размаха бросился навзничь; голова два раза чокнулась о камни подвала и верная собака громко завыла. Заря 1-го января 1831 года осветила сквозь узкое окно страшную картину: кровь струилась по белым волосам и по бороде; пена била клубом; от конвульсий дрожали вес члены несчастного; мозг тонким слоем тек из черепа, зализываемого собакой; глаза неподвижно смотрели. Он умирал отвратительной смертью и радовался концу своих мучений! Он умер!
Но посмотрите в этот чистый домик на Васильевском острове; он принадлежит русскому купцу Доброву. За круглым столом, покрытым еще тарелками, сидит семейство. Отец в домашнем сюртуке с подстриженной бородкой; жена в немецком платье; сын, мальчик лет четырнадцати, в казенной коричневой куртке коммерческого училища; и несколько милых девочек, которых сходство с мальчиком, с купцом и его женой, заставляет признать за дочерей дома.
Тут же сидит трое других особ, непохожих на семейство Доброва: это маленький кадет 1-го кадетского корпуса и две девушки лет по шестнадцати, просто, но мило одетые: эти девушки, сестры хозяйки, которая родом из бедных русских дворянок; маленький воин, ее племянник, сирота, сын родной ее сестры, вышедшей по любви за какого-то князя; но Сиятельный, ведя похвальный образ жизни, застрелен на дуэли за какую-то актрису; а жена его умерла с горести. Мило смотреть на согласие этого семейства.
Вот пробило двенадцать часов и все бросились друг друга обнимать и целовать, поздравляя с новым годом, с новым счастьем.
Добров велел подать вина, и принесли пузатую длинногорлую бутылочку с надписью: Malaga alicante. Он разлил по рюмкам, говоря: это дар доброго голландского шкипера Фан Бреверна, давшего мне оный в знак благодарности; ибо мне удалось спасти его от притеснения одного первостатейного негоцианта. Рюмки подняты и выпиты за здравие Батюшки Царя, за здравие всех добрых людей и сидящих за столом.
Теперь остановитесь в этом поднебесном чердачке высокого каменного дома: бедная девушка нанимает его, платя по пяти рублей в месяц. Она бледна, и горе резкими чертами изображено на ее ангельском страдальческом лице. Она стоит на коленях перед распятием, поставленном на непокрашенном столе рядом с Библией, развернутой вместе с Евангелием.
Смотрите, какие пламенные слезы льет она; смотрите, как трепещет она; смотрите, как грудь ее воздымается. Хотите знать судьбу ее? Несчастная, прельщенная богатым юношей, утопившем в вине и в сладострастии понятие о чести, лишилась в преступных его объятьях единственного достояния своего. Узнав, что он хочет жениться на другой, она торжественно объявила злодею, что он не опорочил ее безнаказанно, и что руководимая любовью к младенцу, коего носила в своей утробе, и местью за неверность его, она будет его преследовать.
Когда она разрешилась от бремени, то новое чувство негодования овладело ее душей. Злодей, желая отдалить ее от себя, испросил посредством своих происков беззаконное распоряжение о заключении ее в дом умалишенных. Дикий вопль ее, непрестанные угрозы, отчаянные телодвижения, смутные глаза и яростные клики: где мой младенец? (в это время отданный куда-то), все это обмануло врачей, но ненадолго: несчастные скоро находят в России покровительство законов.
Люди добродетельные, которые могли защитить ее от угнетения преследователей ее, скоро обратили на нее внимание. Извлеченная из сего положения, ныне живет она в горести, вот на этом чердаке, довольствуясь тем, что приобретает от трудов своих; ибо она с благородной гордостью отвергла пансион, вытребованный для нее от коварного соблазнителя. Звон часов для нее страшен, она трепещет и говорит: - еще Новый Год!
Отдохнем теперь на не менее трогательной, но более приятной картине: посмотрите на этих девушек, молящихся перед Иконой Божьей Матери, окружённых своими братьями и сестрами. Слезы видны на глазах их; но это слезы не от горести. Некоторое довольство заметно в их наружном виде: все мальчики в одежде казённых учебных заведений, a девушки в чистых белых платьицах.
Они встречают Новый Год, произнося имена Членов Августейшего нашего Дома, и имена своих благодетелей, коих мы не назовем, не желая оскорблять их скромности. Это знаете ли кто? Это восемь сирот К-вых о коих, благодаря одному публичному листку, все в течении октября месяца говорили в гостиных (в начале XIX века, в журнальной среде было принято публиковать на последней странице известия о людях, попавших в бедственное положение. Также давался отчет о благотворителях, и к кому ушла помощь), и для которых собрана значительная подписка.
Вот ярко освещены зеркальные окна этого великолепного дома на Малой Морской, у Княгини Вистиной обыкновенная среда: по зеркальному паркету рисуются во французской кадрили прелестнейшие женщины и молодые франты в уродливых фраках, с открытою донельзя грудью, с антиками на манишке.
Сама хозяйка с радушной улыбкой похаживает по комнатам, сообщая каждому из гостей, что играя в вист вчетвером, с Графом Безтетовым, с Фомою Фомичом, да с молоденьким камер-пажем князьком парфюмерским, выиграла сряду десять робертов, потому что граф зевает, Фома Фомич хочет вертеть по своему, да без удачи, а Князек Этьен думает о завтрашних своих бальных башмаках, полученных им от Пельта.
Прозвучали бронзовые часы в то время как подавали жаркое за ужином, и вот все с полными бокалами в руках в один голос воскликнули, Je vous souhaite la bonne fete! Юморист мог бы заметить в это время, что многие девушки обменялись взглядами с многими молодыми людьми; что многие женщины, окинув бегло свой наряд, взглянули значительно на своих сожителей, из которых иные клали правую руку на грудь, так, что можно было думать, что они положили оную и на сердце и на карман, в котором покоились полупустые книжники (сброшюрованные векселя); а иные из этих господ, не столь боящиеся подрыва своим финансам от женских причуд, как от огромных шляп, которые им часто приходится заказывать Циммерману и Юнкеру, по причине частых украшений, получаемых ими для своих лбов, - заносили ладонь на чело.
Загляните в этот трактир на Невском проспекте: в биллиардной отличаются двое, и полные страсти к деньгам и к игре, не слышат, как пробило двенадцать. Для них нет годов; для них крик сорок восемь служит счастливым или досадным предзнаменованием. Вся жизнь их есть желтый шар: страсть к денег стяжанию всегда старается толкнуть его в среднюю лузу, но он всегда летит в угловую.
Далее в уединенной комнате за стаканами глинтвейна, с пенковыми трубками в зубах, сидит двое удалых рубак: один отставной гусар, другой драгун. У обоих лица рассечены турецкими, польскими и французскими саблями. Они зарубили имя Русское на стенах Бухареста, Варшавы и Парижа. Теперь они, тот и другой холостяки, как сами себя величают, решаются бросить свои мирные поля и снова опоясаться саблями, за храбрость врученными им некогда бессмертным Князем Смоленским (Кутузов).
Снова хотят они поратовать за Царя и Русь Святую. Пробило 12 часов: они подняли свои стаканы, и, обнявшись, воскликнули: Ура! да будет 1831-й год бессмертен в летописях Руси. Куда не полетит солдат за двуглавым орлом и за удалым своим Фельдмаршалом. Ура? ура! ура! Тут заключили они друг друга в объятия.
Приказный Кожедралов, сидя перед потухающим камельком, и согревая себя куньим халатом и полштофиком анисовки, скребет что-то пером по трехрублевому листу. Услышав, что полночь пробила, и что его охриплая кукушка повторила эти звуки, сердце его вздрогнуло, как от удара электрицизма, и он, ломая перо, воскликнул: Ах, ты! неужели и этот год для нашего семени будет такой же бедовый, как и минувший?
Приказный Кожедралов, сидя перед потухающим камельком, и согревая себя куньим халатом и полштофиком анисовки, скребет что-то пером по трехрублевому листу. Услышав, что полночь пробила, и что его охриплая кукушка повторила эти звуки, сердце его вздрогнуло, как от удара электрицизма, и он, ломая перо, воскликнул: Ах, ты! неужели и этот год для нашего семени будет такой же бедовый, как и минувший?
Неужели по-прежнему проклятое просвещение будет загораживать нам тропинку? Неужели мы все будем видеть у нас в Приказах Начальников молодых, умных, образованных, из военных или из университетских злодеев, которые сами не берут, да и нас тащат под суд за лихоимства? Да, видно все будет, как в прошедшем году; и нам только и остается жить маленькими ябедническими просьбицами, и того и смотри, что полетишь под суд… охти ти.
Что нынче за время?
Взяток брать не велят,
Штрафованьем грозят!
- Дай-ка выпью для утешения красотулю! - и рюмка пуста.
Расточительный шалун, наследник грядущих доходов, встречает Новый Год при стуке бокалов с пенящимся шампанским в кругу новых Лаис.
Что нынче за время?
Взяток брать не велят,
Штрафованьем грозят!
- Дай-ка выпью для утешения красотулю! - и рюмка пуста.
Расточительный шалун, наследник грядущих доходов, встречает Новый Год при стуке бокалов с пенящимся шампанским в кругу новых Лаис.
Нежный любовник, которому обещана рука милой девушки, как скоро он получит золотые нашивки на рукава своего мундира, мыслит: Ах! если б в этом 1831 году я достиг своего желания!
Конфетин и Рифмович, получив отказы в редакциях двух Альманахов, решились отослать свои вирши во второстепенное издание, и полночь застает их за письменным столом, на котором вместо Иппокрены-Ан (мифический родник на горе Геликон, забивший от удара копытом Пегаса и бывший источником вдохновения для муз (в древнегреческой мифологии)), стоит бутылка восьмикопеечных кислых щей. Мысль важная: будут ли напечатаны пресловутые их стихотворения, - занимает их в сию минуту.
Воображение опустило занавеску своей фантасмагории, и, сказав: до 1832 года - улетело. Лампа моя горела тускло; на стенных часах звонило три. Воспоминание оживило в моей памяти кое-что виденное мною 31 Декабря 1830 года. Хорошенькая Княжна Липская с восторгом приняла из рук своей горничной-француженки картон из магазина m-le Gervais. Недавно выпущенный в офицеры Аркадий Попуpиeв опрыскивал духами a mille fleurs свой новый мундир, принесенный от знаменитого Штремера, а на диване лежал голубой кафтан, желтый кушак и ярко-оранжевая шапка его кучера.
Старый Любообедов сидел в своем кабинете в вольтеровых креслах; парик его висел на картонном болване, т.е. переменил место без малейшего в том различия. Пышный гардероб его разложен был на стульях. Оп был женихом и через несколько дней сделался обладателем прелестной и молодой девушки.
Но в 1831 году, вероятно, состоялся не один глупый брак! Стихокропателя Виршинкина застал я в радости; он смеялся, плескал руками и вертелся на одной ножке: двадцать пять стихотворных пьесок приняты были одним Журналом, начавшим существование свое с 1831 года.
Коллежский Асессор Услуженко разъезжал по городу, как состоящий по особым поручениям у Ее Сиятельства Княгини Марфы Степановны Хлестовой: к Гинцу за визитными карточками; к Амато за пирогом; в Magasin de Florence за беретом; к Плюшару для возобновления абонемента на Furel (СПб. Французский журнал); в английский магазин за английскими Альманахами, которые хотя и не понимаемы Ее Сиятельством, но должны лежать на ее столике в salon de compagnie, ибо такова мода.
Видел я Загорецкого, видел почтенного Фамусова, видел Чацкаго, видел Скалозуба, видел Княгиню Тугоуховскую с ее полком невест, видел многих, но усталые глаза мои как-то нечаянно остановились на пяти или шести журнальных программах, и я сам себе сказал, отирая перо бабочкой и кладя его в сторону:
Дай Бог нам более Журналов:
Плодят читателей они.
Где есть поветрие на чтенье,
Там в уважении перо,
Где грамота, там просвещенье;
Где просвещенье, там добро!
Всё это так, да только сохрани нас Господи от плохих Журналов! Моля Аполлона о счастливом существовании Меркурия, искренно желаю, чтобы его юмористическая палитра менее обиловала резкими красками, коими обрисовываются странности людские: это б было доказательством, что наши поумнели!
Из Северного Меркурия, 1831 г.
Дай Бог нам более Журналов:
Плодят читателей они.
Где есть поветрие на чтенье,
Там в уважении перо,
Где грамота, там просвещенье;
Где просвещенье, там добро!
Всё это так, да только сохрани нас Господи от плохих Журналов! Моля Аполлона о счастливом существовании Меркурия, искренно желаю, чтобы его юмористическая палитра менее обиловала резкими красками, коими обрисовываются странности людские: это б было доказательством, что наши поумнели!
Из Северного Меркурия, 1831 г.