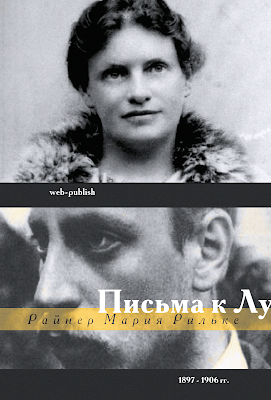Закрой мне слух - тебя услышу я,
затми мне зренье - все равно замечу,
без языка я буду звать тебя
и побреду без ног тебе навстречу.
Мне руки вырви - сердцем обниму...
И будет мозг мой биться, стоит лишь
тебе унять мое сердцебиенье,
а если ты мой мозг испепелишь,
всей кровью вознесу, продлив мгновенье.
II.
Ст.- Петербург, угол Невского и Фонтанки,
меблированные комнаты «Централь»
Субботнее утро.
Я получил твое письмо, твое чудесное письмо, благотворное для меня своим каждым словом; оно словно омывает меня волною, такое оно сильное и звучное, и будто обступает меня садами и возводит надо мной небеса, вселяя в меня способность и радость сказать тебе о том, что бессмысленно боролось с моим последним трудным письмом: как я скучал по тебе и как страшно мне было жить, не имея от тебя весточки, все минувшие дни, после этого внезапного и быстрого прощанья и под тяжестью впечатлений этого почти враждебного города, где ни единой вещью ты не можешь говорить со мною издалека.
Оттого я и написал тебе давеча это неприятное письмо, что с трудом нашло себе выход из моей отрешенности, из невыносимого и непривычного одиночества моих переживаний, и было назойливым, смутным и сумбурным, способным тебя покоробить среди той красоты, которая и в новых условиях сразу же обрамила твою жизнь. <...>
Прошу тебя, приезжай в воскресенье. Ты не поверишь, какими долгими могут быть петербургские дни. При том, что многого они не вмещают в себя. Здешняя жизнь - это непрерывная дорога, ведущая в сторону от любой цели.
Идешь-идешь или едешь-едешь, и, куда бы ни прибыл, первое впечатление всякий раз - чувство собственной усталости. К тому же почти всегда оказывается, что самый длинный путь проделан был понапрасну. И все-таки я уже узнал немало, так что, когда приедешь, нам удастся увидеть несколько прекрасных вещей. Вот уже две недели, как все, о чем бы ни думал, сопровождается у меня этим присловьем: когда приедешь.
Мне запомнилась лунная ночь со среды на четверг. Уже поздно я отправился к Неве, на мое любимое место, напротив Исаакиевского собора, где город всего величественнее и проще. И там, совсем неожиданно, на душе у меня стало радостно, светло и строго, как и сейчас — после получения твоего письма.
Спешу отправить тебе эти строки, чтобы посланные тобой в понедельник с братом два-три слова (лишь несколько слов! я пойму из них каждое) были бы ответом на мой единственный вопрос: рада ли ты? Я - рад, несмотря на многое, что тяготит меня; но глубоко внутри - полнота доверия и неодолимая радость. Спасибо тебе за это.
Твой Райнер
III.
Обернойланд под Бременом,
15 августа 1903 г.
Дорогая Лу, за парком, окружающим этот дом, проносятся быстрые гамбургские поезда, и гул их громок и заглушает порывы ветра в деревьях; и с каждым днем он все более внятен, потому что покой, обступавший нас мало-мальски, облетает подобно листве, и в этом просвете уже можно видеть предстоящее путешествие и ощутить новизну, что приближается к нам вперемешку с заботами: многообещающие далекие города и дух окраинных местностей. В следующую пятницу, наверное, или в субботу мы отправляемся в путешествие; первая передышка будет в Мариенбаде, где мы условились повидаться с отцом, а потом мы остановимся в Мюнхене, чтобы полюбоваться большой картиной нашего друга, с которым познакомились в Париже. Это «Семья художника», а написал ее испанец Игнасио Зулоага; он поразил нас также своей человеческой незаурядностью и простотой, и вот мы радуемся, как долгожданному свиданию, близкой встрече с его картиной: ведь он щедро вложил в нее самого себя. Его картины мы увидим и в Венеции (следующий привал на нашем пути); возможно, они окажутся единственной реальностью в этом призрачном городе, чье бытие словно зеркальное отражение. Коротко передохнув там, мы поедем во Флоренцию, в этот прелестный и ясный край, что создан для поклонения, славы и радости. Но и там мы сможем задержаться всего лишь несколько дней, ибо: впереди Рим, великий манящий Рим; он пока еще для нас только имя, но скоро окажется вещью, сотворенной из сотен других вещей, огромный разбитый сосуд, из коего утекло в землю так много прошлого, город-руина — мы хотим воздвигнуть его из развалин, не таким, конечно, каким он был некогда, но отыскав в этом прошлом, где так много вечного, сокрытое глубинное будущее.
Мы — потомки этих уединенных, потерянных во времени вещей, которые наука, глубоко заблуждаясь, привыкла наделять названиями и датами; и несправедлив тот, кто восхищается ими, признавая их определенную и описуемую красоту. Ибо, спрятав свое лицо в землю, они отвергли любое название и назначение; а когда их нашли, они с легкостью поднялись над землей и стали совсем как птицы, живые существа пространства, и воссияли, как звезды, над изменчивым временем. Непреходящая ценность этих новонайденных вещей заключается, думаю, именно в том, что их можно рассматривать как незнакомцев; цели их неизвестны, и ничто материальное (по крайней мере, для ненаучного взгляда) не пристанет к ним; случайный голос не нарушит тишины их сосредоточенного бытия, и длительность их бесстрашна и безоглядна. Мастера, что дали им жизнь, безвестны, двусмысленная слава не коснулась чистоты их форм, и предание не замутнит их обнаженную ясность. Они есть. Вот и все. Таким видится мне античное искусство. Таков маленький тигр, стоящий у Родена, и множество обломков и черепков в музеях (их долгое время обходят стороной, оставляя без внимания, пока один из них вдруг случайно не откроется, не покажет себя, не засияет, как первая звезда, вслед за которой, едва ее заметят, появятся из глубины небесной сотни других, внезапно, с головокружительной быстротой). Такова и непревзойденная Ника, поставленная в Лувре на кусок плывущего корабля, подобная парусу, наполненному попутным ветром; и это, и многое другое, что кажется незначительным тому, кто ошибочно ищет пластики в материальном, в поводе, продолжает жить в своем возвышенном совершенстве среди разрушенных и призрачных людей.
Великими предстают и готические вещи; и хотя по времени они намного ближе к нам, но столь же далеки, столь же безымянны и самоценны в своем одиночестве, столь же безначальны, как и вещи в природе. Подобно тем, что вышли из-под рук Родена, они привели нас к древнейшим произведениям искусства, к до античным, в основе которых лежит их неумолимая пластичность, их вещность, тяжелая, словно свинец, глыбообразная и твердая. Обнажилось родство, коего никто не знал в этих формах, образовались связи и соединили потоки, проходящие сквозь времена; и за историей человечества оказалось возможным угадать историю бесчисленных поколений вещей, всю долгую цепь замедленного спокойного развития, протекающего уверенней, потаенней и глубже. Когда-нибудь, Лу, в эту историю вольется и русский человек, потому что он, терпеливый и зреющий (как Роден — созидающий), ведет свое происхождение от вещей, с которыми он в родстве, в кровном родстве. Выжидательность, свойственная русскому характеру (деловитый немец, уверовав в собственную значительность из-за своей приверженности к незначительному, называет ее обычно пассивностью), получила бы тем самым новое и убедительное объяснение: вероятно, русский для того и создан, чтобы дать истории человечества пройти мимо, а затем вступить в гармоническую слаженность вещей своим поющим сердцем. Он должен лишь не спешить и, выдержав время, словно скрипач, которому еще не подали знака, сидеть в оркестре, бережно держа инструмент, чтобы не повредить его... Все чаще, проникаясь чувством все более глубоким к этой далекой святой стране, я ощущаю свое влечение к ней как новую почву для одиночества и высокую стену, ограждающую меня от других.
Говорил ли я тебе, что в Париже (особенно в первое время) я часто встречался с Эженом М. де Вогюэ? Но как сильно пришлось мне разочароваться в нем и в Луи Леже, да и во всех остальных, чье имя в связи с Россией приобрело для меня особенное звучание. <...>
И это незнанье пути, уверенность только в том, что лежит на самой поверхности и всего отдаленней, неимоверно затрудняет мое собственное движенье вперед, удручая меня печалями всех когда-либо заблудившихся — даже тогда, когда я вдруг чувствую, что вот-вот найду самого себя. К числу сокровенных тайн и незыблемых опор моей жизни, коими я держусь, принадлежит то, что Россия — моя родина, но мои попытки сблизиться с ней — будь то поездки, люди или книги — ничего не дают и, скорее, отвлекают меня от нее. Мои усилия напоминают поползновения улитки, хотя бывают все же мгновенья, когда эта несказанно далекая цель повторяется во мне, точно в близком зеркале. Я живу и учусь, но в таком разброде, что часто уже не могу понять, к чему это все и пригодится ли мне когда-нибудь. В Париже я невыразимо приблизился к России, а теперь мне кажется, что и находясь в Риме, перед лицом античных вещей, я смогу подготовиться ко всему русскому, к тому, чтобы вернуться в эту страну. Если бы я не знал, что любое развитие происходит по кругу, я упал бы духом — ведь опять прельщает меня соблазн зовущей чужбины, что станет мне говорить о себе на чарующем языке. Уже не раз увлекала меня итальянская сущность и способствовала моим взлетам, за коими следовали болезненные падения; зато теперь, пожалуй, и хорошо, что со мною рядом будет молодой художник, эта женщина, никогда не знавшая тоски по южным краям ни как личность творческая, ни ради жизни там, потому что северное ее мироощущение не доверяло чрезмерной открытости их ослепительного великолепия, а ее восприимчивость, уже отягченная молчаливым откровением строгих болот, не слишком нуждалась в словоохотливых излияниях. И вот, достигнув зрелости в своем искусстве, она, по совету Родена, — после того как в Париже, соприкоснувшись с античным наследием, сама почувствовала эту потребность, — стремится теперь увидеть Италию, но не ту, что громоздится вокруг праздношатающихся завороженных зевак или студентов-художников, без разбора поглощающих любые впечатления, а другую Италию, окружающую того, кто желает спокойно продолжать свою работу и лишь в промежутках поднимает глаза навстречу обступающей его новизне.
В этих промежутках и мы сумеем кое-что увидеть совместно; впрочем, я буду жить сперва тоже лишь созерцанием и постижением многих вещей. Ибо в Риме, где Клара будет работать всю зиму, я смогу выдержать совсем недолго, и еще до того, как почувствую тяжесть этого города, я начну искать себе скромное одинокое пристанище (хотелось бы на море), где мягкая зима неотличима от ранней весны. О если б хоть там наступили дни, когда я смогу работать глубоко и собранно; если б хоть там удалось найти мне просторную комнату и веранду, и аллею, по которой никто не бродит; если б не было по ночам соседей; и если б заботы повседневной жизни позволили мне хоть короткое время вести ту жизнь, о которой кричу, то никогда более (что бы ни случилось) я не признаюсь в жалобах, исторгаемых мной.
И в этой тишине, когда она мне будет дарована, я хотел бы, Лу, подниматься к тебе порою, словно к светлой святой из родимой дальней страны, которой мне не достичь, потрясенный, что ты сияешь яркой звездой над тем самым местом, где я особенно робок и темен.
РайнерМы — потомки этих уединенных, потерянных во времени вещей, которые наука, глубоко заблуждаясь, привыкла наделять названиями и датами; и несправедлив тот, кто восхищается ими, признавая их определенную и описуемую красоту. Ибо, спрятав свое лицо в землю, они отвергли любое название и назначение; а когда их нашли, они с легкостью поднялись над землей и стали совсем как птицы, живые существа пространства, и воссияли, как звезды, над изменчивым временем. Непреходящая ценность этих новонайденных вещей заключается, думаю, именно в том, что их можно рассматривать как незнакомцев; цели их неизвестны, и ничто материальное (по крайней мере, для ненаучного взгляда) не пристанет к ним; случайный голос не нарушит тишины их сосредоточенного бытия, и длительность их бесстрашна и безоглядна. Мастера, что дали им жизнь, безвестны, двусмысленная слава не коснулась чистоты их форм, и предание не замутнит их обнаженную ясность. Они есть. Вот и все. Таким видится мне античное искусство. Таков маленький тигр, стоящий у Родена, и множество обломков и черепков в музеях (их долгое время обходят стороной, оставляя без внимания, пока один из них вдруг случайно не откроется, не покажет себя, не засияет, как первая звезда, вслед за которой, едва ее заметят, появятся из глубины небесной сотни других, внезапно, с головокружительной быстротой). Такова и непревзойденная Ника, поставленная в Лувре на кусок плывущего корабля, подобная парусу, наполненному попутным ветром; и это, и многое другое, что кажется незначительным тому, кто ошибочно ищет пластики в материальном, в поводе, продолжает жить в своем возвышенном совершенстве среди разрушенных и призрачных людей.
Великими предстают и готические вещи; и хотя по времени они намного ближе к нам, но столь же далеки, столь же безымянны и самоценны в своем одиночестве, столь же безначальны, как и вещи в природе. Подобно тем, что вышли из-под рук Родена, они привели нас к древнейшим произведениям искусства, к до античным, в основе которых лежит их неумолимая пластичность, их вещность, тяжелая, словно свинец, глыбообразная и твердая. Обнажилось родство, коего никто не знал в этих формах, образовались связи и соединили потоки, проходящие сквозь времена; и за историей человечества оказалось возможным угадать историю бесчисленных поколений вещей, всю долгую цепь замедленного спокойного развития, протекающего уверенней, потаенней и глубже. Когда-нибудь, Лу, в эту историю вольется и русский человек, потому что он, терпеливый и зреющий (как Роден — созидающий), ведет свое происхождение от вещей, с которыми он в родстве, в кровном родстве. Выжидательность, свойственная русскому характеру (деловитый немец, уверовав в собственную значительность из-за своей приверженности к незначительному, называет ее обычно пассивностью), получила бы тем самым новое и убедительное объяснение: вероятно, русский для того и создан, чтобы дать истории человечества пройти мимо, а затем вступить в гармоническую слаженность вещей своим поющим сердцем. Он должен лишь не спешить и, выдержав время, словно скрипач, которому еще не подали знака, сидеть в оркестре, бережно держа инструмент, чтобы не повредить его... Все чаще, проникаясь чувством все более глубоким к этой далекой святой стране, я ощущаю свое влечение к ней как новую почву для одиночества и высокую стену, ограждающую меня от других.
Говорил ли я тебе, что в Париже (особенно в первое время) я часто встречался с Эженом М. де Вогюэ? Но как сильно пришлось мне разочароваться в нем и в Луи Леже, да и во всех остальных, чье имя в связи с Россией приобрело для меня особенное звучание. <...>
И это незнанье пути, уверенность только в том, что лежит на самой поверхности и всего отдаленней, неимоверно затрудняет мое собственное движенье вперед, удручая меня печалями всех когда-либо заблудившихся — даже тогда, когда я вдруг чувствую, что вот-вот найду самого себя. К числу сокровенных тайн и незыблемых опор моей жизни, коими я держусь, принадлежит то, что Россия — моя родина, но мои попытки сблизиться с ней — будь то поездки, люди или книги — ничего не дают и, скорее, отвлекают меня от нее. Мои усилия напоминают поползновения улитки, хотя бывают все же мгновенья, когда эта несказанно далекая цель повторяется во мне, точно в близком зеркале. Я живу и учусь, но в таком разброде, что часто уже не могу понять, к чему это все и пригодится ли мне когда-нибудь. В Париже я невыразимо приблизился к России, а теперь мне кажется, что и находясь в Риме, перед лицом античных вещей, я смогу подготовиться ко всему русскому, к тому, чтобы вернуться в эту страну. Если бы я не знал, что любое развитие происходит по кругу, я упал бы духом — ведь опять прельщает меня соблазн зовущей чужбины, что станет мне говорить о себе на чарующем языке. Уже не раз увлекала меня итальянская сущность и способствовала моим взлетам, за коими следовали болезненные падения; зато теперь, пожалуй, и хорошо, что со мною рядом будет молодой художник, эта женщина, никогда не знавшая тоски по южным краям ни как личность творческая, ни ради жизни там, потому что северное ее мироощущение не доверяло чрезмерной открытости их ослепительного великолепия, а ее восприимчивость, уже отягченная молчаливым откровением строгих болот, не слишком нуждалась в словоохотливых излияниях. И вот, достигнув зрелости в своем искусстве, она, по совету Родена, — после того как в Париже, соприкоснувшись с античным наследием, сама почувствовала эту потребность, — стремится теперь увидеть Италию, но не ту, что громоздится вокруг праздношатающихся завороженных зевак или студентов-художников, без разбора поглощающих любые впечатления, а другую Италию, окружающую того, кто желает спокойно продолжать свою работу и лишь в промежутках поднимает глаза навстречу обступающей его новизне.
В этих промежутках и мы сумеем кое-что увидеть совместно; впрочем, я буду жить сперва тоже лишь созерцанием и постижением многих вещей. Ибо в Риме, где Клара будет работать всю зиму, я смогу выдержать совсем недолго, и еще до того, как почувствую тяжесть этого города, я начну искать себе скромное одинокое пристанище (хотелось бы на море), где мягкая зима неотличима от ранней весны. О если б хоть там наступили дни, когда я смогу работать глубоко и собранно; если б хоть там удалось найти мне просторную комнату и веранду, и аллею, по которой никто не бродит; если б не было по ночам соседей; и если б заботы повседневной жизни позволили мне хоть короткое время вести ту жизнь, о которой кричу, то никогда более (что бы ни случилось) я не признаюсь в жалобах, исторгаемых мной.
И в этой тишине, когда она мне будет дарована, я хотел бы, Лу, подниматься к тебе порою, словно к светлой святой из родимой дальней страны, которой мне не достичь, потрясенный, что ты сияешь яркой звездой над тем самым местом, где я особенно робок и темен.
Вилла Штроль-Ферн,
17 марта 1904 г.
Дорогая Лу,
это было 22-го января. В этот день я писал тебе. Рассказывал о подробностях своей жизни. Благодарил тебя за письмо и просил прислать мне маленькую фотографию.
С тех пор от тебя никаких вестей, а обстоятельства таковы, что заставляют меня тревожиться. Каждый день я невольно думаю, не обернулась ли русская война опасностью и ужасом для твоей матери, твоего племянника и тебя. И нужно же, чтобы это случилось — это несчастье, это горе и бремя для тысяч людей, из которых каждый, подобно Гаршину, ощущает войну как ниспосланное страдание!
Боже, иметь бы силы, много сил в запасе, жить насущным хлебом накопленных сил, а не так, как я — слишком скудно и боязливо даже при этой спокойной отдаленной жизни, стать бы в свое время тем, кем, в сущности, и следовало бы стать (например, врачом), то для человека не гордого и готового отдаться делу не нашлось бы сейчас иного призвания и места, чем те лазареты, где русские люди умирают страшной страдальческой смертью.
Я думаю о молодом Смирнове, одном из тех рабочих, с которыми мы познакомились у Шильхен. Позднее я получил от него два письма; он служил солдатом в Варшаве. Наверное, он теперь тоже там, среди призванных, страдает и думает, хочет понять...
Каково им теперь, всем этим людям, так внезапно отправленным на Восток из тихих заснеженных деревень и предместий?
Но для меня сейчас самое главное — знать, что с тобой? Дома ли ты? В России?
Ну а здесь — здесь начинается римская весна; город все более наполняется иностранцами, как водится, восторженными. Даже через наш маленький парк проходит вдруг изредка какая-нибудь группа, и когда она приближается, из-за кустов слышна неприятно громкая, возбужденная немецкая речь. Тогда я глубже прячусь в мой красный домик, из которого почти никогда не выхожу. Я читаю Сёрена Киркегора. Чтобы читать его в подлиннике, как и Якобсена, я начну этим летом изучать датский язык.
Перевод «С л о в а» закончен. А в феврале я приступил к большой работе — нечто вроде второй части к «Историям о Господе Боге»; и вот я погружен в нее и не знаю, как она пойдет дальше, когда и куда. Разного рода заботы, помехи, случайности — все это чересчур и сразу отвлекает меня, как бы ни был я поглощен своим делом. Но теперь я должен вернуться к начатому; именно потому, что это так трудно, мне хочется верить: со временем из этого все же что-нибудь выйдет, что-нибудь хорошее.
Что же до книги о Господе Боге, то уже нынче весной должно появиться издание поменьше, простое, без украшений, под своим прежним подлинным названием: «Истории о Господе Боге». В мае я смогу их послать тебе, дорогая Лу.
Желаю тебе покоя в твоем саду, начинающем медленно пробуждаться. А перелетные пташки, что здесь щебечут сейчас, еще прилетят к тебе.
РайнерРим, вилла Штроль-Ферн,
последний день марта 1904 г.
Х р и с т о с в о с к р е с!
Дорогая Лу!
И в а н о в и Г о г о л ь писали здесь некогда эти слова, и многие пишут их отсюда и поныне на свою православную родину. Но увы! это совсем не пасхальный город и не та страна, что лежит, раскинувшись, в могучем гуле колоколов. Здесь одна суета, лишенная благочестия, и праздничное представление взамен праздника.
Один-единственный раз была у меня настоящая Пасха. Это было тогда, той долгой необычайной, особенной и бурной ночью, когда всюду толпился народ, а И в а н В е л и к и й бил, настигая меня в темноте, удар за ударом. То была моя Пасха, и я думаю, мне хватит ее на целую жизнь. В ту московскую ночь мне была торжественно подана великая весть, проникшая мне и в кровь, и в сердце. И теперь я знаю:
Х р и с т о с в о с к р е с!
Вчера было пение в соборе св. Петра под музыку Палестрины. Но это — ничто. Все растекается в этом надменно-огромном пустынном здании, напоминающем полую куколку, из которой выполз гигантский темный мотылек. Зато сегодня я провел несколько часов в маленькой греческой церкви; там был патриарх в торжественном облачении, и через царские врата иконостаса ему подносили длинной чередой его украшения: большую корону, посох из золота, перламутра и слоновой кости, сосуд с облатками и золотую чашу. Он брал эти вещи и целовал старцев, которые их подносили, — это были одни лишь старцы, длиннобородые, в золотых одеждах. Потом они стояли в святилище, вокруг большого обыкновенного каменного стола, и долго читали вслух. А снаружи, перед иконостасом, стояли справа и слева, друг против друга, молодые иноки и перекликались в пении, подняв головы и вытянув шеи, точно черные птицы весенней ночью.
И тогда я сказал тебе, дорогая Лу: Х р и с т о с в о с к р е с!
А придя домой, нашел твою открытку, на которой были те же слова. Спасибо.
Благодарю тебя также за письмо и милую фотографию. Это для меня куда больше, чем просто исполнение просьбы. На этом держится и взрастает прошлое, что было утрачено, и будущее, что не смогло сбыться.
Война — наша война — тяготит меня почти физически, но я мало читаю о ней, потому что совсем отвык от газет: они мне противны и к тому же они все искажают. В приложении к «Zeit» было несколько дней тому назад помещено письмо русского офицера, которое прилагаю. Конечно, у них не хватило такта даже на то, чтобы воздержаться от оскорбительного вступления к этим простым трепещущим строчкам. Еще где-то довелось мне прочесть, что война якобы будет продолжаться несколько лет; кажется, это сказал Куропаткин. Но ведь это немыслимо!
Хорошо, что ты теперь у себя — возле цветов, которые скоро раскроются; и родственники твои все так же тебе близки. А главное — ты в своем доме и вступаешь в весну из прожитой зимы. Но твоя болезнь?..
Будь здорова, дорогая Лу, — на радость себе и тем, кому ты нужна.
РайнерБоргеби горд,провинция Сконе,
Швеция,16 августа 1904 г.
Дорогая Лу, я думаю о тебе, хотя и не знаю, где ты. Я ищу тебя в этой сильной грозе, что наполняет деревья старого парка, бросая то свет, то тень на аллеи, а вечером возводя небеса над лугами. <...>
Я сделал довольно мало: немножко выучился датскому языку, читая книги Якобсена и Германа Банга, а также письма, что писал своей невесте Сёрен Киркегор. Перевод этих писем — вот почти единственное, чем я занимался. Потом я болел, тяжело перенес это и до сих пор еще не вполне здоров. И мне хочется лишь одного: чтобы не прекращалась эта сильная гроза, такая великолепная и по-осеннему дальняя. Мне кажется, я вобрал в себя слишком много лета и солнца. Все внутри меня ждет теперь, когда полностью облетят деревья и за ними откроется даль с пустыми полями и длинными дорогами, ведущими в зиму. <... >
Я не смею более писать о себе и жаловаться. Сейчас, когда Россия навлекает на себя одно несчастье за другим, все, что касается меня самого, видится мне таким незначительным и недостойным упоминанья. Окажись ты вдруг там, на твоей великой и тяжкой родине, тебя всю переполнили бы ее печали и плачи. Как я желал бы, чтобы она была и моей родиной! Я имел бы право отзываться на каждый удар и сострадать в ее великом страданьи.
Райнер
< Приписка: > Посылаю тебе, дорогая Лу, новое измененное (только внешне) издание «Историй о Господе Боге» — так его удобней держать в руках и читать!
< Приписка: > Посылаю тебе, дорогая Лу, новое измененное (только внешне) издание «Историй о Господе Боге» — так его удобней держать в руках и читать!
Медон-Валь-Флери под Парижем,
вилла де Брийян, 14 ноября 1905 г.
Дорогая Лу,
все вышло иначе. Твоя открытка из Испании была для меня, как ты догадываешься, полной неожиданностью, но в то время я не мог еще знать, что и мне придется отвечать неожиданностями. Когда я вернулся сюда из Фридельхаузена, Роден пригласил меня поселиться у него. Я принял его предложение, и вот, непредвиденно, из этого образовалось нечто реальное и длительное. Его любезность и дружелюбие поддерживают меня внутренне, а внешне — те обязанности, кои он возложил на меня, дабы мне немного помочь. С конца сентября я занимаюсь тем, что пишу бóльшую часть его писем (на таком французском, за который где-нибудь наверняка есть Чистилище). Он доволен мною и добр, и хочет, чтобы у меня оставалось время и для собственных дел. Вся вторая половина дня принадлежит мне полностью, да и вокруг него самого — такая атмосфера труда и умения, что я, вероятно, смогу здесь научиться всему, чего мне недоставало. Мне отведен маленький домик — в его саду, раскинувшемся на холмах Медона. Ты найдешь этот домик, хотя он и крохотный, на прилагаемой открытке, по соседству с его собственным домом и рядом с «Musée», в котором выставлены его великолепные вещи.
Я не писал тебе, но часто уносился к тебе мыслью. А теперь я даже не знаю, куда ее направить. В Петербург? Как там дела у твоих? А твое здоровье? Пожалуйста, не забудь сообщить. Как прошло испанское путешествие? Теперь, когда я обосновался неподалеку, я, наверное, съезжу в Испанию. Моя первая лекционная поездка (в Дрезден и Прагу) уже позади; в начале марта, по видимости, состоится вторая: меня пригласило берлинское «Общество искусства».
Не проехать ли мне через Геттинген? А может, и выступить?
Говорить о Родене мне всегда в радость. Я думаю, мой доклад превосходит, в какой-то мере, мою маленькую книжку, во всяком случае, он «произносится» так же, как та «писалась».
Здесь в Париже у меня появилось двое русских знакомых; благодаря им в мои руки попадают изредка и русские книги.
- Но что же станет с Россией? Не все ли потеряно? Прошу тебя, дорогая Лу, передай сердечный привет твоему мужу и откликнись хоть одним словцом, которое бы я услышал, как и все звучащее вместе с ним.
Райнер
Твои книги, что были до сих пор у меня, вернутся к тебе наконец из Ворпсведе в ближайшие дни.
< Санаторий Валь-Мон>
Понедельник
Д о р о г а я,
значит, вот оно, видишь, — к чему я был готов, о чем предупрежден уже три года тому назад благодаря моей чуткой натуре: нелегко ей нынче, нелегко одолеть недуг; ведь за это долгое время она растрачивала себя в неприметных попытках помочь, подлечить, подправить, и еще до того, как сложилось нынешнее бесконечно мучительное состояние со всеми его последствиями, ей пришлось со мной вместе перенести вялотекущий кишечный грипп. И теперь, Лу, я не знаю, как много Ада, ты знаешь, какую боль, физическую, поистине огромную, я впустил в пласты моего существования, разве что это все — исключение и путь уже обратно на волю. Но теперь. Эта боль покрывает меня. Подменяет меня. Днем и ночью.
Откуда взять силы?
Лу, дорогая Лу, врач напишет тебе, госпожа Вундерли напишет тебе — она приехала сюда на несколько дней, чтобы помочь мне. У меня хорошая опытная сиделка, и я доверяю своему врачу, который за три последних года наблюдает меня уже в четвертый раз. Но это: Ад.
А у тебя, у вас, как дела? Будьте оба здоровы! Что-то носится в воздухе на исходе этого года, предвещающее беду, угрожающее.
П р о щ а й, д о р о г а я м о я.
Т<вой> Райнер