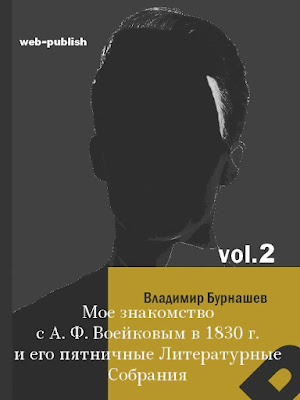IX.
Воейков имел страсть разоблачать псевдонимы, хотя сам не любил когда разоблачали те псевдонимы (Алексея Кораблинcкого, Никиты Лугового и Феоктиста Нaгaйкина) которыми он часто прикрывался.
Так, он, когда находился в немилостивом ко мне расположении духа, что в течение нашего знакомства случалось не раз, снимал тотчас завесу и с моего Виктора Бacкoвcкого или Бориса Волжина, которыми я маскировал свое настоящее имя, особенно с того времени, когда стал служить в военном министерстве (1835), где в ту пору сделано было распоряжение тогдашним министром, графом (в последствие бывшим светлейшим князем) А. И. Чернышевым, чтобы все находящиеся на службе под его начальством обязались подпиской, под опасением исключения из службы, ничего не печатать под своим именем без предварительного рассмотрения и разрешения директором канцелярии, статс-секретарем М. М. Бриcкoрном. Распоряжение это последовало по следующему случаю: молодой чиновник министерства, только что вышедший тогда из Царскосельского лицея, талантливый стихотворец г. Деларю (Михаил Данилович Деларю (1811-1868) - русский поэт пушкинского периода) напечатал в одной из первых книг Библиотеки для Чтения свое счастливое подражание Виктору Гюго в звучных и хороших стихах, которые были, поистине, лучше подлинника. Вот эти стихи:
Когда б я был царем всему земному миру,
Волшебница, тогда б поверг я пред тобой
Все, все, что власть дает народному кумиру:
Державу, скипетр, трон, корову и порфиру
За взор, за взгляд единый твой.
И если б Богом был, - селеньями святыми
Клянусь, я отдал бы прохладу райских струй
И сонмы ангелов с их песнями живыми,
Гармонию миров и власть мою над ними
За твой единый поцелуй.
В нынешнее время, то есть почти 50 лет спустя после этого случая, вероятно, никто не обратил бы на них в цензурном отношении внимания. Да и тогда, при довольно стеснительной цензуре, цензор пропустил их беспрепятственно. Но в стихах этих тогдашний митрополит Серафим, непонятно каким образом их читавший, усмотрел что-то не православное и вошел об этом обстоятельстве с всеподданнейшим докладом.
Когда б я был царем всему земному миру,
Волшебница, тогда б поверг я пред тобой
Все, все, что власть дает народному кумиру:
Державу, скипетр, трон, корову и порфиру
За взор, за взгляд единый твой.
И если б Богом был, - селеньями святыми
Клянусь, я отдал бы прохладу райских струй
И сонмы ангелов с их песнями живыми,
Гармонию миров и власть мою над ними
За твой единый поцелуй.
В нынешнее время, то есть почти 50 лет спустя после этого случая, вероятно, никто не обратил бы на них в цензурном отношении внимания. Да и тогда, при довольно стеснительной цензуре, цензор пропустил их беспрепятственно. Но в стихах этих тогдашний митрополит Серафим, непонятно каким образом их читавший, усмотрел что-то не православное и вошел об этом обстоятельстве с всеподданнейшим докладом.
Государь император Николай Павлович прогневался и приказал разузнать о переводчике этих стихов, которые, однако, как тогда слышно было, по благозвучию своему самому государю понравились. Со всем тем молодой стихотворец г. Деларю, помнится, был посажен на гауптвахту и лишился службы под начальством военного министра, который нашел нужным, в ограждение себя на будущее время от подобных неприятных случайностей, сделать то распоряжение о котором я сейчас упомянул.
После этого можно себе представить как неприятна была каждому служащему молодому писаке страсть г. Воейкова к разоблачению псевдонимов, которой он умел донимать даже Сенковского, печатая беспрестанно: Барон Брамбеус (Сенковский); Морозов (Сенковский); А. Белкин (Сенковский); Тютюнджи-Оглу (Сенковский) и пр. Но забавно было то, что он, Воейков, никак не хотел считать рецензента Телескопа и Молвы настоящим Виссарионом Белинским, а не вымышленным псевдонимом.
При этом не лишнее сказать, что Воейков к Белинскому, тогда уже проявлявшему зачатки своего замечательного таланта, питал ненависть, ежели можно, еще сильнейшую, чем к Полевому, Булгарину и Сенковскому и не мог о критиках и разборах его говорить иначе как со свойственным ему желчным остервенением, заходившим за пределы не только умеренности и приличий, но даже здравого смысла.
В этот вечер, как нарочно, шел между гостями Воeйкoва довольно оживленный разговор о Белинском и его партизанских литературных наскоках, как иные называли резкий способ рецензирования, какой в те патриархально-идиллические времена начинал вводиться, с легкой руки Полевого, в особенности Белинским и той молодой дружиной, в Москве его окружавшею, которая нанесла окончательный удар педантизму и схоластике в нашей, еще тогда столь молодой литературе.
Воейков долго, долго слушал эти разговоры, в которых одни рьяно нападали на новые литературные взгляды и порядки, другие, нехотя и с осторожностью, старались выставлять хорошие стороны этого нового литературного строя. Войков все время грыз набалдашник своей клюки и потом, схватив грифельную доску, начал на ней что-то строчить и объявил что, не принимая участия в разговоре, он становится на сторону противников вредных нововведений.
- У меня, господа, - завопил Воейков, - есть эпиграмма о том каким тоном извозчичьего ухарства хочет, по-видимому, блистать современная quаsi-критика. Прошу позволения моих любезных гостей прочесть ее.
- У меня, господа, - завопил Воейков, - есть эпиграмма о том каким тоном извозчичьего ухарства хочет, по-видимому, блистать современная quаsi-критика. Прошу позволения моих любезных гостей прочесть ее.
Разумеется посыпались просьбы: Сделайте одолжение! Пожалуйста! Ради Бoгa! и пр. Воейков не заставил себя ждать и с аспидной доски прочел следующее, как бы возглашаемое самим Белинским и соnsorts (другие (фр.):
Прочь с презренною толпою,
Цыц, схоластика, молчать!
Вам ли черствой душою
Жар поэзии понять?
Дико, бешено стремленье,
Чем поэт одушевлен.
Там в безумном упоенье
Бог поэтов, Аполлон
С Марсиaса содрал кожу!
Берегись его детей:
Эпиграммой хлопнут в рожу,
Рифмой бешеной своей
В поэтические плети
Приударят дураков,
И позор ваш, мрака дети,
Отдадут на свист веков.
Эта эпиграмма, правду сказать, довольно бойкая, произвела впечатление на слушателей, так что партизаны вредных (как говорили противники их) стремлений новой критики, особенно критики Белинского, будто маленько приуныли. Это приятно пощекотало самолюбие старика-сатирика.
Он, по-своему, хрипло засмеялся и, усмотрев появление слуга и мальчика-казачка с закуской и водкой, пригласил весело и радушно гостей ужинать, чем Бог послал. Все встали и пошли в столовую, где, оказалось что Бог послал целое блюдце жареных рябчиков, с двумя или тремя салатниками с огурцами, пикулями и салатами разного рода, полсотни тонких ломтей холодного ростбифа с шампиньонами, при нескольких бутылках довольно порядочного вина.
Началось, разумеется, с того что все старались, по возможности и с соблюдением некоторых приличий, себя угостить вследствие хозяйского приглашения; а потом опять завязались разговоры, причем некоторые гости на ломберных столиках записывали разные разности, приходившие им на память и которые назначались в печать для хлебосольного журналиста-амфитриона.
Он был в хорошем расположении духа и усердно ел и смялся. Вдруг, однако, enfant terrible (озорник (нем.), Якубович, нашел нужным объявить, что стихи графа Хвостова к Зонтаг (Зонтаг Анна Петровна (урожд. Юшкова, 1785-1864), родственница жены Воейкова А. А. Воейковой (урожд. Протасовой) до такой степени нелепы и отличаются таким дурным стихосложением, что едва ли можно их напечатать.
Это напоминание об этих несчастных стихах, печатание которых срамило издание, а между тем обусловливалось обязательством, с которым соединялась значительная материальная выгода, было крайне неприятно Воейкову и подняло его желчь. Началось с того, что он высказал несколько дерзостей Якубовичу, причем вылетели выражения: яйца курицу учат; молоко на губах не обсохло; не для того пускаю к себе в дом чтобы слышать глупые советы; всяк сверчок знай свой шесток; и пр. и пр.
Когда же гнев на несчастного Якубовича поубавился, Воейков принялся за графа Хвостова, восклицая: - Связала же меня нелегкая с этим сумасшедшим метроманом!
Мягкий и Кроткий Борис Михайлович Федоров старался всячески успокоить расходившегося желчного и нервозного старика; но все уговоры только подливали масла в огонь. Ловкий Вердеревский понял это и начал рассказывать анекдоты о графе Хвостове. Эти анекдоты поспособствовали охлаждению Воейковского пыла и заставили его даже ухмыльнуться сначала, а потом и просто-напросто смеяться, явный знак что бешенство заменено иронией и сатирой, которые для Хвостова были хуже Воейковского гнева, "потому что заставили Вoейкова повторить пред своими гостями известные свои, впрочем далеко не мудрые и неострые, стихи на Хвостова:
Хвосты есть у синиц,
Хвосты есть у лисиц,
Хвосты есть у кнутов,
Так бойся же, Хвостов!
Вердеревский рассказал совершенно свеженький анекдот о Хвостове. Дело в том, что знаменитый наш баснописец Иван Андреевич Крылов иногда занимал деньжонки у графа Дмитрия Ивановича, ссужавшего его ими всегда с величайшим удовольствием, потому что проценты, конечно громадные, больше нынешних еврейских по 15 в месяц уплачивались прослушиванием стихотворений графа. На днях Ивану Андреевичу понадобились гроши, и на этот раз не бездельные, и он поехал к своему банкиру, то есть к Хвостову. Но, к горю того и другого, в этот раз граф сам был àsec, потому что на днях только отдал Слёнину весьма значительную сумму денег для издания своих виршей.
- Да разве не на свое иждивение Слёнин, как он объявляет в предисловиях, издает произведения графа? - спросил кто-то, чуть ли не благодушный Подолинский.
- Какой осел, вcкричал Воейков, - кроме самого автора, решится тратить свои деньги на издание всей этой галиматьи! Само собой разумеется, что Слёнин тут только комиссионер-фактор, и комиссионер, наживающий себе порядочный куш на этом дельце, потому что старый стихоплет понятия не имеет о ценах бумаги, типографии, художников, переплетчика, комиссионерских и пр. А вы разве не знаете, что когда вся эта, в пяти, шести или больше томах, дребедень бывает издана в свете, то Хвостов раздает экземпляры на комиссию, платя за эту Комиссию не по нашему 15-20%, а 10-50%, вот как-с! Затем он разъезжает по книжным лавкам и справляется о продаже своих творений. Оказывается, что творения его застряли и сидят на тпрру, ни ну, сколько Слёнин, на счет автора, не объявляет широковещательно об их выходе во всех газетах, и вот тогда Хвостов снабжает деньгами своих агентов, которым велит отправляться по книжным лавкам и скупать там его экземпляры, разумеется, не упоминая о том, что они этим исполняют его поручения. Впрочем, не он первый, не он последний пускался на такую штучку; знаменитый французский романист д'Арленкур, когда романы его всеми были раскуплены и всем порядком оскомину набили, делал точь в точь то же самое.
- А почему это, - спросил опять, помнится, Подолинcкий, - граф так часто издает свои не раскупающиеся издания: в 1818, 1821, 1827, 1830 годах и все одно и то же, с некоторыми свежими прибавлениями?
- А это, изволите видеть-с, для того, - вещал Воейков, - чтобы, как его сиятельство объявляет всегда в своих предисловиях (при этом он развернул первый том нового издания Хвостова) следующее: Многие может быть порицали меня за часто повторенные издания. С чего это он берет и кому, какая нужда до его нелепых изданий? Издавай хоть ежедневно, себе на потеху, людям на посмеяние. А делал оные, и если жизнь моя продлится, всегда делать буду, на счет авторского славолюбия (и на счет своего кармана!), единственно для удобнейшего исправления погрешностей (да каждый том есть огромная погрешность!), которое необходимо нужно, если автор желает чтобы его стихи,
... когда покажутся в столицу
Не первые пошли обертывать корицу!
- И без корицы найдется, что в них обертывать, - хохотал Воейков, - про то хорошо знает мой новый гость Владимир Петрович. За сим он вменил себе в обязанность рассказать почтеннейшей публике во всевозможных подробностях мой случай в магазине Дюливье со стихами графа на холеру и с посвящением моей особе дарёного экземпляра, в который мадам Дюливье распорядилась завернуть какой-то корсет, купленный престарелой графиней Хвостовой у нее в магазине.
- Все это прекрасно, заметил кто-то, - но все это остановило Василья Евграфовича с анекдотом о Крылове и Хвостове.
Рассказчик продолжал:
- Итак, граф Дмитрий Иванович страдал безденежьем, потому он предложил Ивану Андреевичу вместо денег, налицо не имевшихся, только что изготовленные для продажи 500 полных экземпляров своих стихотворений в 5 томах. - Возьмите, Иван Андреевич, все это на ломового извозчика, - говорил Хвостов, - и отвезите Смирдину. Я продаю экземпляр по 20 р. асс., но куда не шло, для милого дружка сережка из ушка, отдайте все эту Смирдину, для скорости, по 5 р., по 4 р. экз., и вы будете иметь от 2 до 2500 р. разом, т.е. более чем, сколько вам нужно. Крылов, думая, что за эту массу книг, роскошно изданных, дадут таки ежели не по 4, то по 2 р., соображая, что тут, ежели рассчитывать на вес, наберется почти около сотни пудов, даже не принимая в соображение тяжеловесности стихов (острил рассказчик), поблагодарил графа, добыл, через графскую прислугу ломового извозчика и, не взирая на свой обычную лень, препроводил весь этот груз лично к Смирдину, конвоируя сам этот литературный транспорт от Сергиевской до дома Петропавловской церкви, на легковом извозчике шажком. Но каково было удивление и разочарование Крылова, когда Смирдин наотрез отказал ему в принятии этого, как он говорил, хлама, которым, по словам книгопродавца, без того уже завалены все петербургские книжные магазины.
В задумчивости, но, не расставаясь со своей флегмой, вышел Иван Андреевич на Невский проспект, где ломовой извозчик пристал к нему с вопросом: Куда прикажет его милость таскать все эти книги? - Никуда не таскай, друг любезный, - сказал наш русский Лафонтен, - никуда, а свали ка здесь на улицу около тротуара. Кто-нибудь да подберет. И все 2500 книг творений Хвостова, опасающегося так обверток на корицу, была громадной массой свалены у тротуара против подъезда в книжный магазин. Им бы лежать тут пришлось долго, да вскоре проскакал по Невскому проспекту, на своей залихватской паре рысаков с пристяжной на отлете, обер-полицмейстер Сергей Александрович Кoкошкин. Подлетел к груде книг, подозвал вертевшегося тут квартального, удостоверился, что все это творения нашего знаменитого певца Кубры и велел разузнать от Смирдина, в чем вся суть? Когда его превосходительство проезжал обратно, книг тут уже не было: все они, по распоряжению частного пристава, отвезены были обратно к графу Хвостову, о чем, с пальцами у кокарды треуголки, частный отрапортовал генералу, пояснив с полицейским юмором происхождение этой истории, автором которой был Иван Андреевич Крылов. Его превосходительство изволили смеяться и на следующее утро имели счастье обо всем этом докладывать, в числе городских происшествий, государю императору, которому этот случай доставил несколько веселых минут. От последнего обстоятельства, граф Дмитрий Иванович, в качестве верноподданного, был в радостном восхищении.
- Анекдот хоть куда, - заметил Воейков, - да беда, что ни один из цензоров наших его не пропустит. Но завтра же я о нем буду беседовать с графом Дмитрием Ивановичем, которому тем, конечно, доставлю немало удовольствия и утехи.
Между тем пять томов роскошного Слёнинcкого, на деньги графа, издания его стихотворений рассматривались гостями, заняв на столе те места которые были уже свободны от рябчиков, салатов и ростбифа.
- Очень мило то, - говорил Волков, - что в предисловии издателя, этот издатель-нeиздатель, восхваляет, под диктант давшего ему деньги с избытком на издание, высокий талант автора, владеющего превосходно всеми родами отечественного языка. Ха! ха! ха!
- А вот, - указал Якубович, - виньетка-лира, и под нею слова: За труд не требую и не нуждаюсь славы.
- На другом томе, - заметил Карлгоф, - другой эпиграф: Люблю писать стихи и отдавать в печать. Это очень мило! А в тексте также стихи, которые замечательны своей наивностью; да беда, что на деле их автор не сдержал обета не отдавать своих стихов в печать, и отдавал их очень, даже слишком много. Послушайте:
Стихи писать
И их читать
Везде намерен.
И эту часть своей программы автор свято выполнил.
В печать их никогда не буду отдавать -
Не будет и меня никто критиковать,
Я в том уверен.
В последних обстоятельствах автор оказался решительно несостоятелен.
Барон Розен наткнулся на одно стихотворение, в котором Хвостов гласит будто бы бессмертный Суворов, его дядя, с удовольствием слушал его стихи, когда он, племянник, ему их читал, и выражается так:
Гордись, о муза восхищенна,
Своим бессмертным торжеством!
Герой, которого вселена
Считает в бранях божеством,
С кем Росс против стихий сражался,
Под кем верх Альпов унижался,
Полвека славой кто блистал,
Кто образец мужей великих,
Суворов средь побед толиких,
Как друг, твой мирный глас внимал.
- А вот как бессмертный фельдмаршал относился к стихотворениям своего племянника, - сказал барон Розен. - Я слышал это от Василия Андреевича Жуковского и от одного из близких людей к покойному графу Михаилу Андреевичу Милорадовичу. Во-первых, светлейший князь Суворов очень часто в интимном кругу жаловался на мономанию своего племянника, сына родной своей сестры, как он его называл, Митюхи Стихоплётова; во-вторых, когда в 1800 году, по возвращении из Итальянского похода, князь Александр Васильевич умирал в Петербурге, в большой Коломне, там, где нынче строится цирк* (из цирка впоследствии выстроен Мариинский театр), кончавшийся великий полководец в опочивальне своей преподавал предсмертные наставления и советы близким к себе людям, которые входили к нему поодиночке на цыпочках и оставались несколько минут в присутствии духовника, лейб-медика императрицы, Марии Федоровны, англичанина Лейтона, и исторически знаменитого камердинера Прошки. Когда вошел к умиравшему Хвостов, тогда еще человек средних лет, и стал на колени, целуя почти уже холодную руку дяди, последний сказал ему: - Любезный Митя, заклинаю тебя всем, что для тебя есть святого, брось твое виршислагательство, и главное, не печатайся. Помилуй Бог! Это к добру не приведёт: ты сделаешься посмешищем всех порядочных людей. Граф Дмитрий Иванович плакал, целовал руку умиравшего и вышел тихонько, видя что дядя закрыл глаза и, заметив жесты врача, который советовал ему удалиться, чтобы не тревожить отходившего ко сну вечному. Когда Хвостов возвратился в залу, где было много лиц интересовавшихся состоянием здоровья князя Италийского, знакомые подошли к Хвостову с расспросами: - Что князь, как себя чувствует? - Увы! отвечал горюющий племянник, - забывается и бредит!
Из всего этого, не подлежащего ни малейшему сомнению, ясно, что стихотворение графа Дмитрия Ивановича, греша против законов стихосложения, грешит против правды.
Х.
В одну из пятниц, когда я входил в гостиную из столовой, мне показалось, что была произнесена моя фамилия кем-то из сидевших, по обыкновению, вокруг большого круглого стола, предлинным и широким диваном, разделённым многими подушками на несколько отделений. Слух мой меня не обманул, потому что когда только что вошел я в комнату, Александр Федорович подошел ко мне и сказал: - Легки, юноша, на помине: мы сейчас только об вас говорили; да и с упреком, извините, дражайший, с упреком. Как же это можно? На что это похоже? Находитесь в таких близких и дружественных отношениях с издателем французской газетки, Furet, читаемой в наших аристократических гостиных, а между тем допустили напечатать в его листочке статейку о Китайском журналисте, битом палками по приказу разбесившегося на этого журналиста Китайского же мандарина. Ведь всем в городе известно, что богатейший и самодурнейший старец, проживающий в Москве-белокаменной, князь, этот аристократический обломок чуть ли не до-Екатерининских времен, разгневался на Полевого за то, что тот в своем Телеграфе, под рубрикой Живописца русской жизни, изобразил его сиятельство в крайне непривлекательной картине, конечно псевдонимно, но прозрачно псевдонимно, среди его крепостного гарема. Гнев вельможного старца, как не только слышно, но официально под сурдинкой известно, разразился на раменах нашего знаменитого публициста-историка-романиста и юмориста, при содействии наемных палок и батогов. Этого рода случаи надо стараться всегда позамять и в гласность не пускать; а теперь ваш французик, подбитый ветерком обрадовался скандалу случившемуся в России между un boyard russе, которого он назвал мандарином, и русским литератором, причем французик вздумал еще доказывать, что эти палочные удары лестны и блистательны для литератора, на стороне которого будет общественное мнение. Нет, как хотите, юный наш парнасский камрад, а вам грех, великий грех было не остановить пера месье Сен-Жульена в этом случае** (**слух о том, что Н.А. Полевой был побит по приказанию князя Н. Б. Юсупова).
Я спокойно выслушал весь этот выговор от Воейкова, который хоть и говорил о необходимости и обязанности скрывать подобные случаи от иностранцев и вообще от светской публики, и без того недолюбливающей русских литераторов, однако заметно радовался что именно Полевой, а не он сам, был жертвой такого отвратительного проявления самоуправства.
Выслушав речь Воейкова, лившеюся плавно, против его обыкновения говорить какими-то скачками, я объяснил как ему, так и всей честной компании, что я не нахожусь в достаточно близких отношениях к издателю Furet, чтобы иметь влияние на напечатание в его газетке тех или других, им или его сотрудниками сочиняемых статей. Что же касается до статьи в о Кантонском журналисте, оскорбленном так жестоко самоуправным мандарином Поднебесной Империи, то, прочитав ее в воскресном листке и не понимая апологического ее смысла, я при свидании вчера с г. Сен-Жюльеном узнал от него, что он, встретясь на Невском с Булгариным, узнал от последнего о происшествии, бывшем будто бы в Москве с Николаем Алексеевичем Полевым и настрочил эту статейку по совету и наставлению Фаддея Венедиктовича.
Тогда тотчас посыпались ругательства, как произносимые самим Воейковым, так и другими лицами из числа тут бывших, на Булгарина. В особенности, помнится, бешено отзывался г. Струйcкий* (*Николай Еремеевич Струйский (1749-1796) - деятель Русского Просвещения: поэт-дилетант, издатель, библиофил. Имел у современников репутацию сельского графомана, писал под псевдонимом Трилунный), о котором известно, что Северная Пчела упорно отвергала его умение составлять стихи.
Замечательно, однако, что Воейков, упрекавший меня как сотрудника Furet за напечатание этой статьи, поистине столь неуместной и бестактной, сам чрез свой орган дал ей большую гласность и развил эту гласность, завязав по поводу своей статейки полемику с другими журналами. В этом обмене неприличных выходок, тонкий вуаль, прикрывавший истину происшествия, ежели только оно точно было, а не выковано клеветой или сплетней, делался все прозрачнее и прозрачнее, пока, наконец, цензура не приняла мер против излишней тревоги, поднятой по этому случаю журналистикой.
Прямодушный барон Розен, постоянно воевавший с Полевым, хотя когда-то был его сотрудником, в этот вечер выразил благородное сомнение насчет достоверности слуха о побитии палками Полевого, так как слух этот вышел из грязного источника, от Фаддея Булгарина, ненавидящего и Полевого, и Россию. На это Карлгоф сказал что он действительно имеет известия из Москвы о том что Николай Алексеевич болен и не выходит из комнат; но причина его болезни неизвестна.
- Заболеешь, небось, и не так, как отдуют батожьями! - воскликнул старик Руссов; а Воейков на это громко захохотал, прибавив: - Передать надо об этом графу Дмитрию Ивановичу, чтоб он апофеозировал батожьё. Ха, ха, ха!
Снова кто-то выразил сомнение относительно происшествия с Полевым, сделавшимся жертвой самодурства и нахальства ветхого старика-богача; но Воейков, подняв очки и вперив глаза в сомневавшегося, сказал с обычным своим завыванием и как-то особенно позитивно: - Я видел официальную бумагу у благодетеля моего Леонтия Васильевича Дубельта. Приказано Полевому быть в статьях осторожнее и не задевать знатных богачей, много жертвующих на государство; а Крезу конфиденциально дано знать, чтоб он не самоуправничал.
Затем разговор принял другое направление, переходя с одного журнала и журналиста на другого; но как всегда вращаясь преимущественно в любезной Воейкову сфере новостей, превращавшихся большей частью в пошленькие сплетни, повторение которых, по истечении сорока лет, не только забавно, но и несколько назидательно, показывая, что ежели нынче мы не занимаемся тем же, то полагать надо что усовершенствовались нравственно, и что прежним проделкам смело можем дать в эпиграф известный стих Грибоедова:
Свежо предание, а верится с трудом!
Постоянная тетрадь, в виде альбома, лежала пред Воейковым на маленьком пюпитре, который выдвигался из его огромного вольтеровского кресла. В тетрадь эту он прилежно вписывал разного рода новости, сообщаемые гостями. Впрочем, это занятие, то есть записывание новостей и острот разного рода, разделяли его секретари-волонтеры; которые также имели карманные тетради и карандаши в карманах своих фраков или сюртуков. И дело шло как по маслу: агендочки наполнялись, и потом все, что было можно напечатать при существовании строгой предварительной цензуры печаталось в изданиях Воейкова. Гости так привыкли собирать новости и сыпать различные свои заметки и наблюдения в Вoейковской гостиной, что хозяину не было малейшего труда направлять их к этому.
Вдруг в это самое время влетает главный глашатай новостей, Якубович, и едва поздоровавшись, объявляет что он сейчас из кондитерской Вольфа, которая и тогда была там же где находится теперь, у Полицейского моста, но имела характер решительно петербургского саfe Рrocор или Сadran bleu, некогда столь славившихся в Париже сходками французских литераторов и журналистов, хотя, правду сказать, далеко не отличалась изящной наружностью, а была-таки порядочно неуклюжа и грязновата.
- Ну, что нового? - спросил хозяин в унисон с несколькими голосами, предлагавшими тот же вопрос в то время, когда вслед за Якубовичем входил его соперник по части нувеллизма** (**рассказывать сплетни), Платон Волков, вологодский помещик, довольно представительной наружности, с красивыми бакенбардами и густыми волосами. Имел он манеры довольно резкие, любил говорить довольно громко. Он во все журналы давал довольно бойкие статьи, наконец, вздумал сам издавать журнал Петербургский Зритель, выпустил один номер, да тем и покончил, уехав сначала к себе домой, а потом, как слышно было, в чужие края.
- А вот новость, - восклицал Якубович, - что явилось сегодня прямо из Английского клуба новое четверостишие Пушкина. Слушайте:
К Смирдину, как ни зайдешь,
Ничего не купишь.
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь.
- Ха, ха, ха! - смеялись несколько голосов, повторяя: в Булгарина наступишь!
- Наступишь! Как это картинно, словно в груду какую-нибудь богомерзкую! - вопил Воейков, записывая четверостишие.
- Впрочем, - кричал Волков, - есть сегодня и другой вариант, а именно, в третьем стихе, вместо: иль Сенковского найдешь, иль на Греча попадешь. Этот вариант, говорят, вернее, потому что не следует разлучать наших Сиамских близнецов, которых срастила одна кишка общих интересов и всякого проходимства.
- Нет, нет, - пищал барон Розен, - нет, нет, воля ваша, Николай Иванович не чета Булгарину, право не чета.
Волков. - А вот я знаю чудную новость о Булгарине, новость совершенно свеженькую. Вы сегодня в Петербургских Академических Ведомостях, в Инвалиде и в Полицейской Газете прочли объявление книгопродавца Лиcенкова (магазин в доме Пажеского корпуса, на Садовой) что у него продается портрет знаменитого парижского сыщика Видoкa?
Несколько голосов. - Прочли, прочли. Ну и что ж?
Волков. - Да то-с, что это портрет не Видoка, а почтеннейшего автора Выжигиных, Самозванца и прочее, Фаддея Венедиктовича Булгарина, только с подписью имени Видoка, наклеенного внизу, вместо имени нашего знаменитого публициста. Один из первых покупателей этого портрета, цена которому 5 руб. был Александр Сергеевич Пушкин, много, говорят, хохотавший в магазине этой проделке. Потом поэт наш со своей покупкой, не одного, а чуть ли не пятка экземпляров, пошел по Невскому проспекту. На тротуаре он встретил нескольких приятелей, которых тотчас снабдил этой прелестью, а другим указал адрес Лисенкова, и в течение нескольких часов не было у Ивана Тимофеевича (то есть Лиceнкова) отбоя от покупателей портрета Видoка. Хохота-то, хохота, сколько было! Один экземпляр этого превосходного произведения остроумия нашего обязательного и ловкого книгопродавца Пушкин собственноручно прибил гвоздиками в книжном магазине Слёнина, со строгим запретом снимать со стены. К Слёнину весь день гурьбами ходили любоваться этим портретом любопытствующие.
Вoейков. - Прелесть! Чудо! Выдумка стоит тысячи червонцев. Завтра же еду к моему милому Ивану Тимофеевичу и расцелую его за эту чудную и умную проделку.
Волков. - Только не знаю, будет ли Лисенков доволен вашими поздравлениями, Александр Федорович. Дело-то приняло не совсем приятный для него оборот.
Воейков. - Как, что, каким образом?
Волков. - Изволите видеть: узнал об этой истории Греч, чуть ли не от самого Пушкина, и мигом поскакал к Лисенкову, которого стал уговаривать положить экземпляры портрета под спуд. Вы знаете их отношения: Николай Иванович, должен Лиcенкову по заемному письму сколько-то тысяч. Но не тут-то было: Лиcенков закобенился, доказывая что он не виноват в том что у Видока и у Булгapина в физиономиях какое-то феноменальное сходство; при этом плут помаргивает, да хихикает.
Воейков. - Молодец Иван Тимофеевич, молодец! Исполать ему!
Волков. - Однако Греч этим не удовольствовался и доказывал, что это точный портрет Булгарина, что даже на портрете сохранена в петлице фрака и миниатюрная золотая сабелька, с какой Булгарин себя везде изображает, хотя, служа под русским знаменем, сабли за храбрость, как видно из его формуляра, не получал. Пока Греч с Лисенковым спорили, вдруг шарк в магазин сам Булгарин, да со своей бамбуковой палкой...
Воейков. - Ах! Господи! Был бы я там, тотчас вооружил бы Ивана Тимофеевича вот этим моим костылем.
Волков. - Это была бы роскошь оружия, потому что, говорят, Иван Тимофеевич и сам был не промах; схватил первый попавшийся ему под руку стул.
Воейков. - Браво-брависсимо! Кто победил: сармат или казак?
Волков. - Греч остановил, говорят, побоище, угрожая бойцам, что он кликнет полицию. Но городская молва гласит, будто оружие свою роль с той и с другой стороны исправно разыграло. Греч и Булгарин что-то переговорили между собой по-французски и уехали из магазина; под вечер, так с час тому назад, хлопоты Греча и Булгарина увенчались успехом довольно хорошим для них: продажа портрета прекращена переодетыми жандармами, экземпляры конфискованы и, правда ли, нет ли, а говорят, будто Лисенкову придется заплатить какую-то нешуточную сумму Булгарину за бесчестье.
Вслед за этой гросс-курьёзной новостью, как назвал ее Воейков, скорбевший о том, что эти дни он не может выезжать со двора по болезни, хозяин объявил с некоторым огорчением о том, что в сегодняшнем номере Пчелы, старинный его приятель, министр внутренних дел Дм. Ник. Блудов, горько оскорбил его, напечатав свой протест, объявивший, что буквы Д. Б., которыми подписана в Инвалиде статья о новом томе Забав и отдохновений Николая Назарьевича Муравьева (этого, впрочем, поистине, как его называла в обществе, Хвостова в прозе) ему вовсе не принадлежит, как то могут полагать люди не знающие его и не понимающие что он, Блудов, не способен к проявлению того отвратительно неприличного тона в каком написана вся статья в периодическом издании, выходящем под редакцией г. Воейкова.
- А небось, - ворчал Воейков, - в былые времена арзамазства нынешний вельможа его высокопревосходительство не гнушался Воейковым, которого сам в Арзамасии окрестил двумя собрикетами: Печуркa и Две Огромные руки. Да и Вoeйков не гневался, когда Дмитрий Николаевич приставал к нему с эпиграммой на него.
- Какая это эпиграмма? - спрашивал Карлгоф.
- Вот она господа! И Вoeйкoв с лёгким завываньем прочитал:
Хвала Вoeйков, Крот, Сады
Делилевы изрывший,
И царскосельские пруды
Стихами затопивший!
За ним, пред ним свистят свистки
И воет горько муза...
Он добр: Вергилия в толчки,
Пинком Делиля в пузо!
- Кстати об эпиграммах, - заметил барон Розен. - Сегодня я, рывшись в моих бумагах, нашел эпиграмму на Телеграф, еще 1826 года, впрочем. Вот она, может быть, пригодится вам, Александр Федорович:
Маn Каnn, was man will,
Глаголет смело Телеграф:
Что захочу могу! Судить не будем строго
Его ни целей мы, ни прав:
Что хочет он - невесть, а может он немного.
Воейков (принимая клочок исписанной бумаги). - Спасибо, барон! Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть! Я стоял за Полевого, вы все помните, до 1828 года, когда он отступился от логики и правды. Тогда и я отступился от него. И теперь, когда он зашел за пределы всякого добра, чести и разума, я не могу не идти против него. Боже милостивый! Что он осмелился напечатать, делая рецензию на драму Нестора Васильевича Кукольника, драму, перл патриотизма и исторической правды! Поэтому я в Инвалиде завтра же тисну: Издатель Телеграфа принял за правило противоречить всему тому что принято целым светом за истину, утверждено неотразимыми доказательствами, освящено веками и мнением людей мудрых, не лжесвидетелей, людей строгой добродетели, не имевших никакой причины быть пристрастными. Он отвергает свидетельство миллиона очевидцев, называет не важными события происходившие в глазах целого государства и на единогласии всех современных писателей основанные.
Какое-то тяжелое чувство вдруг пронизало одновременно почти всех присутствовавших, кроме разве Руссова, свирепо ненавидевшего Полевого. Другие же почти все испытали неприятное нравственное ощущение, заставлявшее их понимать донос в том, что им сейчас прочел хозяин, принимавший теперь их с любезностью амфитриона. Заметив, впечатление, произведенное на своих гостей последней статьей предназначенной в печать, Воейков стал читать другую:
Когда Самохвальцев перестанет величать Гомера - мясником, Анакреона, - пьяницей, Тит-Ливия - лжецом, Тацита - невеждой; когда перестанет он уничижать Ломоносова, насмехаться над Державиным, презрительно говорить о Князе Шаховском, об Александре Ивановиче Писареве, ставить себя выше Карамзина, бросать грязью в Каченовского и Греча, в Булгарина и Погодина, в Сомова и Олина, в Князя Шаликова и Рaича, в Надеждина и Воейкова, в Аладьина и Филимонова, тогда публика снимет с него дурацкий колпак с погремушками, сшитый ему общими усилиями, из разноцветных лоскутков бумаги, писателями, переводчиками, журналистами, газетчиками и альманачниками.
- Кто же это, господа, кто - скажите на милость! - вопил Воeйкoв. Несколько голосов, дружно крикнули: - Полевой, Полевой!
ХI.
Воейков, казалось, торжествовал свой дешевую победу и тотчас заговорил о Брамбеусе. В нападениях на Библиотеку для Чтения, жестоко щелкавшую почти каждого из тех господ, печатавших в журналах и альманахах, да и отдельными книгами, которые теперь здесь заседали, Воейков встретил много симпатии, с какой были приняты его 102 примера, что редактор Библиотеки для Чтения, увещевая всех нас писать разговорным языком, сам не имеет понятия даже о чистой русской разговорной речи и пишет языком книжным. Еще забавно было для слушателей весьма тщательное и обстоятельное исчисление Воейковым числа подписчиков Библиотеки для Чтения, ежегодно уменьшавшихся. Так, когда по случаю появления нескольких новых журналов, Сенковский глумился, уверяя, что Библиотека для Чтения их не читает и еще спрашивал об их здоровье, уверяя, что никогда еще Библиотека для Чтения не была в столь цветущем состоянии, - то на это Воейков замечал печатно, что по собранным наиточнейшим данным известно, что Библиотека для Чтения за последние годы лишалась 1500 подписчиков. Цифры эти, взятые из газетной экспедиции и секретно собранные, были Сенковскому нож острый, по причине своей убийственной правды. Вообще выходки Воейкова против Сенковского многим очень нравились, и он их охотно и с любовью к делу сатиры читал на своих вечерах.
Затем Воейков перешел к исчислению творений знаменитого в то время писaки, издававшего в Москве бесчисленное множество книг в том, два, иные до пяти, некоего Александра Анфимовича Орлова, или, как печатал Воейков, обижавшийся за знаменитую фамилию графов Чесменcких - Арлова. Этот Арлов издал в короткое время 42 сочинения, из числа которых многие направлены были против Булгарина. Таковы были довольно замысловатые книжонки:
1) Хлыновские степняки, дети Ивана Выжигина.
2) Хлыновския свадьбы детей Ивана Выжигина.
3) Смерть Ивана Выжигина.
4) Церемониал погребения Ивана Выжигина.
5) Два кума или Крестный отец Ивана Выжигина.
6) Родословная Ивана Выжигина.
7) Бегство Ивана Выжигина в Польшу и препровождение по этапу в Сибирь.
Не мог, однако утерпеть Воейков, чтобы не возвратиться к Полевому; Борис Михайлович Федоров, читавший в отдаленном углу, под ярко светившим кенкетом, сегодня же вечером с почты принесенный новенький, свеженький, с неразрезанными страницами номер Московского Телеграфа, вдруг встал со стула и с книгой журнала, одетого в лиловую обертку, в руке, подошел к столу, около которого сидело общество, и сказал:
- Ну, господа защитники Полевого, воля ваша, а он просто беснуется!
Воейков пришел в восторг и, потирая руки, воскликнул: - Покажите-тка, покажите-тка что такое!
Федоров отметил в Книге ногтем одно место, и Воейков во всеуслышание прочел:
Московский Телеграф есть журнал которым должна гордаться Россия, журнал который один стоит за нее на страже против староверцев, один для неё на ловле европейского просвещения.Можно себе представить какие посыпались ругательства из уст Воейкова, Федорова и Руссова, при помощи взвизгиваний барона Розена и восклицаний Волкова, Глебова, Дьячкова, Аладьина на Московский Телеграф и на его издателя.
- Как же не Самохвальцев, как же, не Самохвальцев! - кричал Воейков. - В этом человеке страсть к себя-восхвалению доходит до мономании. Он положительно сумасшествует! Ему место не в русской литературе и не в моем Доме Сумасшедших, а в заправском желтом доме, там, там на девятой версте Петергофской дороги!
Действительно, этой выходкой Полевой шагнул до того далеко, что даже постоянный защитник его Карлгоф молчал, сделался мрачен и не дождавшись конца вечера, уехал.
Воeйкoвcкое пятничное общество ликовало победу, и тотчас несколько лиц, и в том числе старик Руссов, гром других, заявили желание, как она выражались по-своему, печатно отделать Полевого за его самохвальство, причем слышался голос и слова самого Воейкова: - Зададим же мы ему и докажем что иные перья потяжелее и похлеще батожья!
Хотя в ту пору я лично не знал Полевого, да, правду сказать, когда в последствии, в 1836 году, узнал его в Петербурге, то к личности его не имел никакой симпатии; но мне все эти, раздававшиеся около меня, выражения, до того показались неприличными между литераторами в применении к их же собрату, ненавидимому или из зависти или по чувству обиженного им самолюбия что я готов был последовать примеру Карлгофа, удалиться втихомолку, да беда что шляпа моя была далеко, и взять ее, не обратив на себя внимания зоркого хозяина, не было возможности. Вдруг в это время в соседней комнате послышались чьи-то шаги, с легким бренчаньем шпор. Хозяин мигом вскочил и заковылял к двери, у которой он, со свойственным ему, в известных случаях, гиперболическим восторгом, принимал, целуя в плечи, известного воина-писателя, или скорее именно солдатского писателя, как сам себя он наименовал, генерал-лейтенанта Ивана Никитича Скобелева. В это время я бывал уже частым воскресным гостем Ивана Никитича, почему он тотчас со мной поздоровался, по-своему, с восклицанием: Наш пострел везде поспел! и, раскланявшись со всеми, уселся по приглашению хозяина на диван и занялся поданным ему чаем.
- Однако, господа, сказал он, - когда я начинал брать позицию этой комнаты, у вас шла какая-то, словно, перестрелка, или скорее, гремел дружный батальный залп, ха! ха! ха!
При этом он лицом делал судорожные движения, отдававшиеся в левом плече, где под пустым рукавом мундирного сюртука была четверть его левой руки, оторванной ядром под Минском в 1830 году.
От этих усиленных движений золотые генеральские эполеты сильно вздрагивали и вскидывались.
Воейков объяснил причину того общего увлечения которого генерал был свидетелем и, в доказательство справедливости общего неудовольствия на Полевого, прочел его нестерпимо хвастливую выходку, напечатанную им в Телеграфе.
- Ну, друзья любезные, - сказал Иван Никитич, - конь и о четырех ногах, да спотыкается, так уж на то мы люди и человеки чтоб ошибаться. Недаром гласит пословица: Век живи, век учись! Не могу же не согласиться с вами, что камрад наш и сородич, и мой даже землячок, Николай Алексеевич, на этот раз хватил через край. Ну да быль молодцу не укор! А ведь умен же он, право, умен, дьявол! Не понимаю, как это он так опростоволосился на этот раз. Завтра в матушку Москву отъезжает ваш же брат литератор, а мой, по бабе моей, родственничек, Пимен Арапов, и я всенепременно с ним пошлю писаночку моему драгоценному алмазу самородному, Николаю Алексеевичу, попросив его почаще читать Отцов церкви и помнить, что все мы люди и не должны чересчур возноситься, ибо горделивых Бог смиряет. А ты, брат, Александр Федорович, ха, ха, ха! генерал-от-кавалерии всей литературы и главный атаман всей партизанщины, переложи гнев на милость и не казни моего любезнейшего и поистине умнейшего Николая Алексеевича. А вот вместо всей этой боевой тревоги, с седым есаулом справа, да с куцым слепышом слева, которые, конечно, поведут у тебя атаку на славу, ты усади-тка Николая Полевого, моего-то землячишку, в твой Дом Сумасшедших, где, ей-же-ей, до того хорошая компания подобралась, что посади меня туда, я сяду с превеликой моей радостью и всласть посижу.
Воейков стал смеяться и отстреливался шутками с Иваном Никитичем, который был в веселом расположении духа и вдруг сказал:
- А я сейчас от Николая Ивановича Греча, где был свидетелем прекурьёзной штуки, о которой, как случившейся с одним из вашей же пишущей братии, хочу вам отрапортовать всем, сколько вас тут налицо. Знаете вы, есть какой-то штаб-лекарь Владимир Иванович Даль, что печатает всякие повестушки под именем Казака Владимира Луганского, оттого, как болтают люди, что родился на Луганском заводе, то есть в земле где когда-то казачество было, да где и поднесь народ запорожского закала.
- Как не знать Владимира Ивановича, - отозвался Воейков, - спасибо, не оставляет меня, грешного, прокажённого, своими статейками и недавно еще у меня была напечатана его повесть Проклятие. О! какая великолепная вещь.
- Ну, продолжал Скобелев, - так этот самый Даль или Луганский, залихватски хорошо пишет, особенно про нашу, про солдатскую, да про матросскую жизнь, которая ему в корень знакома и ведома. И вот он собрал все свои, что только были у него в ларце, рассказы про солдатушeк, матросиков, да мужичков православных и составил книжечку препузатенькую, которая на этих днях явится в книжных лавках всей столицы. И уж если мой бедную Переписку русских солдат публика расхватала, как словно яблоки в Спас или красные яйца в Светлый День, то, конечно, книжка этого Даля, или Луганского, одним изданием разлетится в неделю, хоть бы за одно свое забористое, лучше всякого Березинского табака, названия. Я его нарочно записал. Прелесть! Книжонка под заглавием: Русские сказки из предания народного, изустного, на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими раскрашенные казаком Владимиром Луганским, с эпиграфом:
И много за морем грибов,
Да не по нашему кузову.
И вот он-то, этот Даль-Луганский, вставил в эту Книжку одну сказку, о том, как в раю и аду путешествует настоящий русский солдатик, что ни есть полковая крупа, и встречает он, конечно в раю, нашего беспримерного батюшку Александра Васильевича Суворова, графа Рымникского, князя Италийского. Завязался у крупы-то этой, у пуговицы с метелкой, разговор с батюшкой Суворовым, который рад радехонек повстречаться с таким солдатиком, что в рай только на побывку отпущен. Вот и ну его расспрашивать об теперешних армейских порядках. А Крупа-то распроклятая, как есть без всякого гвардейского цивильства и комильфотства, и пошла лупить с плеча, да так налупила крупа-то наша армейская, простодушная, без всякой фальшивости, что еловые шишки посыпались на бедного Макара в лице самого то есть автора сказок. Книжка еще из типографии не выдвигалась, как один ее экземплярчик поступил на глаза к высшему начальству. Ну, автору и не сдобровалось: кажись прежде всего на Крепостную гауптвахту друга милого угодили, а оттуда ведь и до Алексеевского рукой подать. Узнал обо всем этом Николай Иванович Греч, который как-то в сильной дружбе состоит с Далем-Луганским. Хлопотал и кланялся Греч везде и у всех, где следовало хлопотать и кланяться. Дело объяснилось: убедились, что автор худого ничего не хотел сказать; да беда, что сказал не то, что другим хотелось. Велели только эту повестушку о солдатике в раю и в аду переделать на другой лад, и уж она теперь перепечатывается; а самого автора-то, перепугавшегося Даля-Луганского, вчера я видел у Николая Ивановича Греча на его обычном четверге. Молодой, сухопарый, в лекарском без эполетном мундире, - этот автор пробег, гляжу, от дверей по всей зале почти как скороход, а шпагу с ножнами в руке держит, и как бросится к Николаю Ивановичу. Николай Иванович его крепко, крепко обнял и оба прослезились. Ну а я, дурак, как вижу, что двое плачут, сам плакать принялся. Ну, слава Богу небесному и богу земному, человек спасен из петли, да важно то, что крепко теперь себе ума-разума нажил: на всю жизнь сторожиться будет.
- Сколько сегодня у нас любопытного рассказывается, воскликнул Воeйков и вменил себе в обязанность вслед за этим рассказать его превосходительству Ивану Никитичу о происшествии с портретом Булгарина продаваемым за портрет Видока.
- Слышал и я сегодня что-то об этом, - сказал смеясь Скобелев, - давеча у меня за обедом кто-то из молодежи это рассказывал, и мой Пимен Николаевич Арапов, выше реченный мой роденька, утвердительно говорил, что и он для Москвы купил чуть ли не десяток экземпляров. Увидел, что у этого шпиона, фискала или сыщика французского образина-то вылитый наш Фаддей Венедиктович. Только Пимен Николаевич ничего не подозревал, чтоб это был портрет автора Выжигина, а все напирал на разительное сходство между этими двумя знаменитыми господами. Завтра же сообщу эту курьёзную новость Николаю Алексеевичу Полевому; пусть порадуется!
Интимные отзывы генерала о Полевом очевидно были не по сердцу как Воейкову, так некоторым из его гостей, и они заметно морщились; но никаких, однако резкостей, благодаря заступничеству Ивана Никитича, заявляемо не было, только беседа как-то не клеилась. Вдруг Иван Никитич обратился лично ко мне с вопросом:
- А что, дружок милый, не видать тебя было вчера вечером у Николая Ивановича? Я, было, подумал, что ты захворал, и хотел, коли бы не повстречал здесь, послать к тебе на квартиру проведать. Ведь ты, кажись, жительствуешь нынче в Форштадтской улице, в доме почтенного старика Семена Агафоновича Бижeича, который до Максима Максимовича Брискорна был директором канцелярии военного министра?
Я объяснил, что ежели не был вчера у Н. И. Греча, то потому что случилось быть на танцевальном вечере на Васильевском острове.
- У кого же, ежели это не секрет? - спросил генерал.
- У одной госпожи Р-вой, - отвечал я.
- А, - засмеялся Иван Никитич, - у той Р-вой у которой молодежь пляшет до трех часов утра и разъезжается не получив даже наперстка бульона, не говоря уже о заправском ужине.
- Именно так, Иван Никитич, отвечал я, - и в третьем часу по полуночи, страшно проголодавшийся, я был очень доволен, что гостеприимный Доминик, хотя и заперся уже, а все-таки отпер нам дверь и дал возможность утолить довольно сносно голод.
- Ну, теперь, друг любезный, - говорил с обычными своими ухватками и конвульсичеcкими подергиваниями Скoбелев, - когда мы договорились до вчерашнего или сегодняшнего вашего ужина, я буду продолжать рассказ о том, что там у Доминика происходило. К сожалению, это сегодня известно у обер-полицеймейстера; мне об этом давеча сказывал Николай Иванович.
Воейков и прочие навострила уши; и Скобелев, совсем неласково взглянув на меня и перенеся глаза на всю компанию, столпившуюся около нас, возгласил:
- Изволите видеть: этот юноша с каким-то усатым французом, которого встретил у Р-вой, поехал вместе с этим французом в его двухместной карете искать ужина, и они приехали к Доминику. Все это прекрасно. Тебе, брат Владимир, мой солдатский рассказ смешон; а дело-то могло бы быть и не смешно, ежели бы благороднейший и добрейший Сергей Александрович Кoкошкин не был так снисходителен к литераторам и художникам. Он велел все это замять; а больше всего потому, что тут принимала участие рука Всевышнего.
- Вы хотите сказать, заметил я, - что тут принимал участие автор драмы Рука Всевышнего Отечество спасла, что совершенно справедливо.
- Как, Нестор Васильевич Кукольник? - возгласил Воeйков.
- Ну да, Кукольник, продолжал Скобелев, - Кукольник, о котором стали все так говорить с тех пор, как государь призывал его к себе в ложу и благодарил за его патриотическую пьесу. А жаль, что этот господин разными дебоширствами занимается, да еще вместе с какими-то живописцами в разгульной компании, причем и тебя юноша, вероятно никогда не упивавшегося, так накачали, что вы вздумали, - известное дело пьяному море по колено, - какого-то спавшего, там, у Доминика на диване Немца, так избить, что он едва улепетнул бедный и весь избитый жаловался сегодня рано утром обер-полицеймейстеру. Да еще чем драться-то четверо или пятеро с одним они вздумали, пострелы треклятые, чем бы вы думали? Французскими булками, которыми, вместо камней, она мнили повторить Лазарево избиение. Ха! ха! ха! Надобно же для этого быть чёрт знает как пьяным, чтобы дар Божий, хлеб насущный, употреблять вместо камней. Да видно у Доменика-то и хлеб по ночам на манер Каменного, жесток так, что может за камень служить. Мне говорил Николай Иванович, что Немец весь в синяках. Однако Доминика было подвергла полиция штрафу за слишком позднее принимание гостей в неурочные часы; да вступился за Доминика знаменитый живописец Брюлов, что написал картину Последний день Помпеи, которая во дворце, и обер-полицеймейстер простил трактирщика.
- Вы кончили, генерал? спросил я.
- Кончил, - отвечал Скобелев холодно.
- Так позвольте же мне, - объяснял я, - рассказать как вашему превосходительству, так Александру Федоровичу и всему обществу, как дело было действительно, а не как Николай Иванович Греч благоволит рассказывать. Я непременно желаю передать все по чистой истине, чтобы мне можно было уйти отсюда, не оставив в ком-либо из членов этого уважаемого мной общества мнения очень мне нелестного, будто я мог быть пьян до забвения себя, тем более, что никто из всех действующих лиц, в опьяненном состоянии не был. Слова мои могут засвидетельствовать: Нестор Васильевич Кукольник, Карл Павлович Брюллов, Яков Федосеевич Яненко* (*Портретный живописец, академик) и Александр Алексеевич Валуев.
- Кaкой Валуев это? - спросил Скобелев, - не служил ли он в Кампанию 1812 года в Лубенских гусарах?
- Это тот самый, - заметил я, - который служил в Лубенских гусарах, везде храбро дрался, а в 1826 году вышел в отставку для управления своими большими имениями, оставшимися ему после отца. Теперь он полковник в отставке, семьянин, владелец того громадного в четыре этажа дома который у Кукушкина моста. А вы, Иван Никитич, приняли его за Француза, по рассказам Николая Ивановича Греча, вероятно со слов того прикладывавшегося спящим шпиона в которого Кукольник пустил булкой, пролетевшей мимо его.
- Так это, - заговорил генерал, - тот Александр Алексеевич Валуев, которого я знал в войну 1812 года поручиком Лубенского гусарского полка! Славный человек! Непременно постараюсь с ним свидеться. А ты, между тем, друг любезный, расскажи нам всю историю об избиении вчерашнего числа шпиона у Доминика.
- Дело было просто: когда с А. А. Валуевым, человеком вдвое меня старшим, но необыкновенно милым и любезным, заигравшимся у госпожи Р-вой в карты, мы вошли к Доминику в три часа утра, там застали мы Н. В. Кукольника, К. П. Брюлова и Я. Ф. Яненко, кончивших давно свой ужин и вовсе не опьяненных, а беседовавших о живописи, причем Кукольник, как всегда, спорил с Брюлловым. Я с ними поздоровался, как со знакомыми более или менее людьми, и принялся усердно за котлеты с шампиньонами и за жареную серую куропатку, предложенные мне г. Валуевым, который превосходно, как немногие даже французы, владеет французским языком и любит преимущественно говорить по-французски. Беседа наша на французском диалекте шла особо от беседы Кукольника с Брюлловым, так как мы говорили о предметах иных, а именно, помнится, о театре и о театральных новостях французской труппы. Александр Алексеевич велел подать шампанского и с любезностью настоящего джентльмена, каким он и был, просил моих знакомых не отказать ему в чести распить с нами бокал вина. Разумеется отказа не последовало, и Брюллов, владевший бойко французской речью, даже на парижский лад, принимая А. А. Валуева за иностранца, повел с ним легко беседу о театре, искусствах, Италии, Риме, Флоренции, Париже и пр. Разговор кипел и шампанское пенилось в бокалах. Кукольнику очень полюбился наш амфитрион и он страшно мучил себя, чтобы говорить по-французски с Валуевым, продолжая принимать его за иностранца. Наконец я нашел нужным познакомить этих трех господ, и тогда Кукольник, всегда угловатый и грубоватый, вскипел гневом на меня за то, что я долго не снимал маски иностранца с русского человека, а потом напал на русского человека, который так похож на иностранца; но этот мнимый иностранец скоро угомонил Нестора Васильевича, принявшись хвалить изо всей силы его драму и предложив попробовать розовый креман, ради чего и добрейший Яненко был разбужен для принятия участия в важном деле испытания этого ароматного, тогда модного, а нынче вовсе, кажется, неизвестного вина. Проснувшийся Яненко, протирая глаза, заметил нам, что на диване, в углублении комнаты еще кто-то спит и спит очень давно, то есть спал и тогда когда Кукольник, Брюллов и он, Яненко, вошли сюда в двенадцатом часу ночи, после разъезда из Александринского театра. В эту же пору было уже около пяти часов утра. Такой сон показался всем нам подозрительным, потому Кукольник нашел справедливым попавшийся ему под руку трёхкопеечный французский хлеб устремить в сторону этого сони. Хлеб не долетев до цели, упал около этого субъекта, нашедшего нужным тотчас встать и уйти в буфет. Вскоре мы услышали, как довольно шумно отворена и затворена была наружная дверь, а в комнату где мы находились вошел приказчик кафе, объяснивший нам, что уже шестой час утра, и что разбуженный нами персонаж объявил ему, что он будет жаловаться на бывшее у него позднее общество, ежели хозяин не купит его молчания. Приказчик, поняв что имеет дело с мелким полицейским агентом-сыщиком, дал ему полтинник, которым индивидуум однако остался недоволен, рассчитывая на большее возмездие, и с тем ушел. Мы посмеялись, рассчитались с приказчиком и оставили гостеприимный кров Доминика, разъехавшись каждый к своим пенатам, причем Кукольник и Брюллов взяли карточки г. Валуева, снабдив его своими, и, расставаясь, обещали непременно продолжать знакомство. Только Кукольник все-таки дружески попенял Александру Алексеевичу за то, что он, русский драматург, час целый мучился, чтобы говорить очень скверно на ненавидимом им французском диалекте.
Это все было мной рассказано уже за Воейковским скромным ужином, после которого Иван Никитич завез меня ко мне домой в своей карете, совершенно примиренный и ворча, что Греч любит видно подчас смастерить бабью сплетню. И при этом сказал мне:
- Эх, брат, Володя, плохо! На старости лет попался, я в ваш журнальный водоворот как кур во щи.
XII.
В одну из пятниц, пришел я к Воейкову, в то время когда собрание обычных посетителей было почти в комплекте, и я застал Воейкова в каком-то особенно хорошем расположении духа, с видом торжествующим и знаменательным. Одновременно почти со мной вошло еще несколько гостей. Когда все мы поздоровались с хозяином, он вынул, из постоянно лежавшего пред ним портфеля, завернутое в особенный пол-листа белой бумаги, какое-то письмо и сказал, обращаясь ко мне и к двум-трем новопришедшим:
- Сегодня утром у меня был очень молодой человек, некто Николай Васильевич Гоголь-Яновский, кончивший курс в Безбородкинском лицее в Нежине, почти одновременно с Н. В. Кукольником. Он живет в Петербурге уже несколько лет и состоит на службе в департаменте уделов. В Литературной Газете была с подписью его имени статья в прозе: Женщины, вещь замечательная! Кроме этого он писал и печатал стихи, даже какую-то поэму, да только этот род литературных занятий не был ему удачен и благодарен. Он теперь стал испытывать себя, по совету друга и благодетеля моего В. А. Жуковского и боготворимого мною поэта А. С. Пушкина, в сочинениях вальтер скоттовcкогo закала, описывая в очерках, повестях и рассказах знакомый ему малороссийский быт и, таким образом, создалась вот эта книга господина Гоголя: Вечера на Хуторе близ Диканьки, сочинения пасечника Паньки Рудого. Сегодня автор принес мне эту книгу свою, с письмом от Александра Сергеевича Пушкина. Пожалуйста кто-нибудь потрудитесь прочесть это письмо вслух: у меня эта два глаза что-то не совсем в порядке.
При всем том, что Воейков старался дипломатничать и разыгрывать пред всеми нами роль человека совершенно равнодушного к вниманию оказанному ему такой славной и громадной знаменитостью, каков был тогда Пушкин, - не нужно было быть слишком проницательным чтобы не видеть ясно, как письмо это не только радовало, но восхищало мелочного Воейкова, сильно придерживавшегося русской нашей страстишки преклоняться во прах пред всяким светилом, ежели это светило или богато, или чиновно, или знатно, или находится под могучей протекцией высшей власти.
Письмо Пушкина прочел Якубович, читавший очень отчетисто и приятно. Вот это письмо:
Сейчас прочел Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!Прочитав это письмо, Якубович объявил, что не нужно для этой книги иной рецензии как напечатание этого письма, потому что, прибавил он, когда кто так счастливо начинает свой литературную карьеру, под покровительством таких крестных папенек, каковы: В. А. Жуковский, А. С. Пушкин и П. А. Плещеев - зачем хлопотать о мнении журналов?
Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда сочинитель вошел в типографию, где печатались Вечера, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукой. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его Книгу. Мольер и Филдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселой книгой, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради Бога, возьмите его сторону, если журналисты, по-своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и пр. Пора, пора нам осмеять Les Рreсiеuses ridicules нашей словесности, людей толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят и, все это слогом профессора Третьяковского.
- Ежели бы вскоре, как это и возможно, вставил свое мнение, почти всегда немой Аладьин, потребовалось второе издание этой книги, то я принял бы его на свой счет и еще заплатил бы щедро автору, в случае когда бы автор дозволил, с разрешения Александра Сергеевича и Александра Федоровича, тиснуть в объявлениях об этой книге письмо сейчас нам прочтенное.
Это заявление Аладьина заставило невольно многих улыбнуться; а Александр Федорович даже не утерпел и сказал, со своим волчьим смехом: - Известно дело, вы Штиглиц!
Карлгоф, куря манильскую сигару, склонился на стол и перелистывал книгу Гоголя.
- Однако, - сказал он, - вот тут знакомая повесть, которую я читал в Отечественных Записках П. П. Свиньина: Бисаврюк, или Вечера накануне Ивана Купалы.
- Обратите внимание, Вильгельм Иванович, - заметил барон Розен, - на примечание сделанное к этой повести ее автором. Оказалось что почтеннейший Павел Петрович Свиньин, не поняв всех наивных прелестей малороссийского неподдельного юмора, позволил себе сделать в этой повести разного рода переделки какого-то Канцелярского цвета. Автор, по поводу этих непрошеных им переделок, заставляет двух лиц вести между собой разговор, в котором одно, хохол, выражается очень мало по-хохлацки. Нам с вами малороссийский язык не чужд, Вильгельм Иванович, благодаря нашим стоянкам на Украйне, так потрудитесь прочесть это примечание и эту фразу, на которую я ссылаюсь и в которой выражена жалоба автора на самовольство петербургского журналиста, не умевшего раскусить прелести малороссийского жарта.
Карлгоф, найдя указанное место, прочел слова действующего в разговоре лица, Фомы Григорьевича: Що то вже як у кого чортма клёпки в голови! вследствие чего он и, Розен засмеялись, и им вторил Якубович. Не знающие же малороссийского наречия также поняли в чем суть и смеялись. Затем барон Розен объяснил, что в Северных Цветах была Гоголева же повесть Гетьманщина, под которой вместо подписи поставлено было четыре буквы. О рядом (ОООО), потому что в имени и фамилия Николай Гоголь-Яновский буква эта четыре раза повторяется. Независимо от этого в Литературной Газете была статья: Учитель, записью Глечик. Обе эти статьи, принятые Полевым за статьи принадлежащие ненавистному ему Оресту Сомову, писавшему свои из малороссийского быта повести под псевдонимом Порфирия Байского, в Телеграфе были разбранены жестоко.
- Не худо бы, Вильгельм Иванович, - завопил Воейков, обращаясь к Карлгофу, - если бы вы черкнула цыдулочку вашему любезному Николаю Алексеевичу, попросив его принять к сведению, что между Рудым Панькой и Сомовым нет ничего общего, да и прибавить бы не мешало какое участие в этой книге и ее авторе принимают В. А. Жуковский и А. С. Пушкин.
- Я так уверен, - сказал с напыщенной торжественностью Карлгоф, - в справедливости и беспристрастии Николая Алексеевича Полевого, что не могу допустить мысли, чтоб он белое, ежели только оно вполне бело, назвал черным, увлекаясь чувством личного нерасположения к автору. Что же касается до указания на почтенные авторитеты, то я знаю, что этого рода указаний Николай Алексеевич терпеть не может, и они способны ужасно огорчить его.
Во время этих разговоров о Гоголе и его книге, явился тихонько сам Николай Васильевич Гоголь-Яновский.
Как только он вошел в комнату, Воейков приподнялся и сделал несколько шагов навстречу новому гостю, пожал ему дружески руку, сказав громко:
- А! Николай Васильевич, милости просим. Сегодня все мои гости другого занятия не имеют как рассматривание вашей книги, а другого разговора, как об этой книге.
- О моем-то поросе, - улыбаясь сказал Гоголь, усаживаясь и здороваясь с бароном Розеном и с В. Н. Шастным** (**Переводчик с польского, секретарь редакции в "Литературной газете" барона Дельвига), которых только и знал из всего общества.
- Как порося? - вопрошал удивленно, поднимая очки на лоб, Воейков, которого это название так озадачило, что он не знал, что и сказать и в раздумье стал вытирать стекла снятых им очков.
- Это так взбрехнулось мне, - объяснял Гоголь, - назвать мои Вечера на Хуторе поросенком, хотя к этому была кое-какая причина. Дело в том, что у меня как-то оказался довольно большой баул из папки. А на крышке этого баула с наружной стороны была гравированная раскрашенная картинка, изображавшая блудного сына, пасущего свиней, из которых одна отделилась от стада и видна была на первом плане, ближе и яснее чем даже виден был сам блудный сын, сидевший где-то вдали под деревом. Находящийся у меня в услужении, взятый из дома, служитель прозвал баул этот порося, я же нашел удобным складывать в этот баул все материалы, назначенные для Вечеров на Хуторе, и вот причина, данного мной всей книге забавного прозвища.
Воейков, получив от автора поутру этого дня, со знаменитым письмом Пушкина, экземпляр книги Гоголя, очевидно думал что еще нигде, кроме ближайших: К издатетелю-сочинителю лиц и его, как будущего Мецената, никто не читал еще Вечеров на Хуторе близ Диканьки, между тем как по одному экземпляру этой Книги было роздано почти всем книгопродавцам, из числа которых больше других знал тогда я доброго Михаила Ивановича Зашкина (в доме Баглабана в Большой Садовой, где нынче, кажется, лавка царскосельских обоев), печатавшего мои труды-первенцы, издававшиеся под разными псевдонимами и имевшие назначением чтение для детей, преимущественно. И вот, этот-то книгопродавец бывало обязательно снабжал меня, для прочтения, такими новыми книгами, получаемыми им на комиссию или приобретаемыми, в случае их успеха в публике. Таким образом, я, до прихода к Воейкову, прочел Вечера на Хуторе, и, признаюсь, когда услышал мнение об них нашего бессмертного поэта, Пушкина, то искренно порадовался тому, что мое о них мнение вполне совпадало с мнением такого знаменитого человека как Пушкин, встреченного мной в последствии на четверговом вечере у Н. И. Греча, который и представил меня, вместе с другими своими гостями, этому столь любимому тогда всей Россией поэту. Помню что чтение Вечеров на Хуторе доставило мне одно из сладостнейших удовольствий, какое когда-либо я ощущал при чтении книги, ежели не считать то упоение с каким прочитан был, как теперь помню, несколько лет спустя, первый том Мертвых Душ, того же самого автора. Вследствие этого было совершенно естественно то внимание с каким я в вечер встреча Гоголя у Воейкова всматривался в этого, тогда еще только начинавшего, сделавшегося знаменитым впоследствии, писателя, избравшего для своих сочинений именно тот нравоописательный жанр, который всегда мне так нравился.
Тогдашнее мое всматривание в личность юного Гоголя оставило следы в моей памяти, достаточно глубокие для того чтобы я мог теперь, по истечении такого большого промежутка времени, передать здесь портрет его именно такой какой я видел. При этом я не могу не заметить, что, сколько я не встречал портретов Гоголя, на которых он изображен в дни его юности, все эти портреты, передавая довольно верно черты подлинника, как-то не соответствуют тому каким в ту пору я видел Гоголя. Не излишним считаю заметить, что я только раз в моей жизни видел Николая Васильевича Гоголя-Яновского, именно в описываемом случае.
Тогда я нашел, что он был роста меньше среднего и довольно худощав, подвижен, жив, но слегка сутуловат, или скорее у него были кругловатые поднятые плечи. Гоголь имел светлые глаза, узкий продолговатый нос, дававший всей его физиономия что-то, словно, птичье. Добродушная но не без задней мысли улыбка, столь присущая физиономиям природных Малороссиян из всех сословий, не сходила с его суженных губ. Сколько раз не случалось мне читать описание фигуры Гоголя, я встречал, что у него волосы была более светлого, чем тёмно-русого колера, о чем я ничего положительно сказать не могу, потому что когда я его видел, голова его покрыта была паричком, по-видимому, не из его волос сделанным и далеко не искусным парикмахером. Паричок этот имел вид какой-то cкуфейки, и я заметил что, Бог ведает для чего, был подложен хлопчатой бумагой, которая очень не эстетически и очень не грациозно местами выглядывала из-под волос. Я не знал причины, почему такой молодой человек как Гоголь носил парик и относил это к тому что, вероятно, он перенес горячку, причем обыкновенно волосы выпадают, а остальные бывают выбриваемы, чтобы лучше росли новые. Такого мнения я был до тех пор пока в последствии, уже после смерти Гоголя, кажется, в 1853 году, в Современнике прочел я прелюбопытную и чрезвычайно важную для биографии Гоголя статью М. Н. Лонгинова, знавшего знаменитого нашего писателя преимущественно в ту самую пору, в начале тридцатых годов, когда я его встретил на пятничном вечере А. Ф. Воейкова. В статье г. Лонгинова сказано, что Гоголь соорудил себе парик по тому случаю, что он велел догола выбрить себе волосы с целью усиления их густоты, которая, странное дело, интересовала его, на какой конец не было той растительной помады и того медвежьего жира какие не были бы им испробованы. Туалет Гоголя, когда я его видел, состоял из каких-то горохового цвета брюк, тёмно-коричневого с искрой фрака и лилового с цветочками жилета. Все это было с иголочки; но не отличалось искусством портного, который, по-видимому, не был учеником ни Буту, ни Оливье, тогдашних портняжных знаменитостей. Галстук у него был черный атласный с пряжкой, как тогда почти все носили; но надетый не совсем ловко, отчего беленькие тесемки от манишки выбивались сзади и падали на бархатный воротник фрака.
Гоголь беседовал с хозяином и с бароном Розеном преимущественно; но, познакомясь с будущим своим рецензентом Якубовичем и с легко знакомящимся Платоном Волковым, он и с ними разговаривал. Но весь этот разговор и вся эта беседа вертелась почти исключительно на одном переливании из пустого в порожнее о том, что Гоголь признателен Пушкину, Жуковскому и Плетневу, что последний придумал название книги и советовал сохранять наистрожайшую анонимность, что он (Гоголь) считает себя счастливым имея знакомство с семейством статс-секретаря Лонгинова, с сыновьями которого он репетирует разные науки и русскую словесность в особенности. Он расспрашивал о сношениях с книгопродавцами, причем Воейков брался в особенности свести его с Иваном Тимофеевичем Лисенковым, которого назвал другом и благодетелем своим. При этом Воейков рассказал во всеуслышание черту честности г. Лиcенкова. Дело в том, что Воейков позаимствовал от Лисенкова однажды сумму во сто полуимпериалов, равнявшуюся в ту пору с небольшим 500 р., а между тем по рассеянности, ему свойственной и происходившей у него большей частью от жестоких мигренях, он вместо слова полу-империалов, написал в заемном письмо слово империалов, которое так и в книгу маклерскую было занесено. Но Лисенков первый замутил эту ошибку Воейкова, которая могла заставить последнего заплатит ему вдвое против заимствованной от него суммы, спешит к Воейкову, указывает ему на его промах или описку и просит cколь можно скорее все это исправить. Воейков очень был ему за такое бескорыстие благодарен и хотел во всех газетах пропечатать свою признательность. На это Лисенков отозвался, что публичная похвала такому его действию, столь натуральному, была бы ему неприятна и была бы упреком целому обществу, словно оно бедно людьми исполняющими свои обязанности; да и к тому же он терпеть не может оглашения своих действий. Как частного человека, а не как книгопродавца и купца. Теперь, когда после этого Воейковского рассказа прошло 40 лет, кажется что нет никакого неприличия или неудобства повторить в ретроспективной статье то, что в моем присутствии было рассказано Воейковым при весьма многих свидетелях, из числа которых не все же перемерли, найдется несколько человек и в живых и здравствующих.
- Вы, Николай Васильевич, спрашивал Воейков, - то письмо от А. С. Пушкина, которое мне доставили сегодня лично, вероятно из Царского от него получили? Вы потрудитесь сообщить мне его адрес, чтоб я мог ему отвечать в Царcкое. А то хоть он и большая поэтическая в России знаменитость; но напиши к нему даже в Царское, как кто-то во времена оны писал к Вольтеру из Америки, не зная его адреса: А Мonsieur Voltaire, en Еuroре, письмо едва ли до шло бы аккуратно. Нет, нам с Францией, да еще с Францией того времени, то есть 1775 года, не сравняться пока.
- Вот адрес Александра Сергеевича, - говорил Гоголь, вынув из кармана карточку Пушкина с его царскосельским адресом. - А вот, кстати и письмо его, при котором он
прислал то, которое я вам сегодня утром принес.
- Если нет в письме этом секретов, - воскликнул Воeйков, - Бога ради прочтите!
- Извольте, - сказал Гоголь, и прочел письмо следующего содержания:
Любезный Николай Васильевич! Очень благодарю за письмо и за доставление Плетневу моей посылки, особенно за письмо. Проект вашей ученой критики удивительно хорош. Но вы слишком ленивы, чтобы привести его в действие. Статья Косичкина еще не явилась. Не знаю, что это значит, не убоялся ли Надеждин гнева Фаддея Венедиктовича? Поздравляю вас с первым вашим торжеством - с фырканьем наборщиков и объяснением фактора. С нетерпением ожидаю, и другого - толков журналистов, и отзыва остренького сидельца (то есть Полеваго, пояснил Гоголь). У нас все благополучно; бунтов, наводнения и холеры нет. Жуковский расписался. Я чую осень (письмо от 25го августа) и собираюсь засесть. Моя Наталья Николаевна благодарит вас за воспоминание и сердечно кланяется. Обнимите от меня Плетнева и будьте здоровы в Петербурге, что довольно, кажется, мудрено.Чтение этого письма Пушкина имело эффект в гостиной Воейкова и эффект тем больший, что Гоголь передал это интимное и лестное для всякого, не только для такого новобранца в литературе, каким был тогда он, с милой простотой и скромностью, без всяких жеманств и без старания сколько-нибудь выказывать свой личность. Совсем тем он тотчас сделался мишенью общего внимания и как бы центром, около которого словно сгруппировалась вся наша компания этой пятницы. И расположение это к Гоголю невольным образом усилилось, когда он опять очень просто и очень наивно сказал, обратясь к Воейкову:
- Однако давеча вам, Александр Федорович, угодно было, приглашая меня к себе на ваш пятничный вечер, сказать мне, чтоб я принес с собой что-нибудь из моих писаний, и я исполнил ваше требование и имею с собой одну вещь, правда, не совсем еще конченную, которую я намерен поместить в мой, предполагаемый мной к изданию, сборник Арабески. Статья, которую я теперь имею при себе называется Шинель и есть очерк с натуры чиновничьего быта. Петр Александрович Плетнев, которому я ее читал, остался ей доволен. Но он ко мне уж очень снисходителен, да к тому же он мало знаком с настоящей сутью нашего чиновничества, которое представляет собой совершенно своеобразный мирок, исключительно свойственный Петербургу. Я желаю прочесть эту повестушку мою в обществе людей каковые, как я слышал и знаю, ваши гости, из которых многие могут сообщить мне свои замечания; а я всегда рад-радехонек принимать к сведению и к исполнению замечания практические и основанные на знании дела.
Предложение было принято с особенным удовольствием как хозяином, так гостями, образовавшими тотчас кружок около автора-чтеца; а Воейков, призвав своего старого служителя, приказал строго-настрого теперь, пока будет идти чтение, кто бы из гостей ни пожаловал, просить входить как можно тише, чтобы не помешать чтению. Гоголь читал свою превосходную Шинель, произведение поистине высоко замечательное и в особенности прекрасное по глубине своих мыслей и по верной анатомии человеческого сердца, очевидно, с симпатией и особенной любовью, и читал мастерски, увлёкши внимание всех слушателей, которые притaивали даже дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова, ни одной идеи, ни малейшей подробности. Вообще пьеса эта произвела на всех то впечатление, которое впоследствии она произвела в печати на всю публику, разумеется, публику сколько-нибудь развитую и умеющую сочувственно относиться ко всему хорошему, ко всему изящному, художественному.
Таким образом я могу сказать, что мне выпало на долю высокое удовольствие узнать это замечательное произведение прежде большей части читающей публики и узнать при такой обстановке, из уст самого автора, читавшего свое творение с отличным умением.
Когда Гоголь кончил, то все спешили, и знакомые и не знакомые, передавать ему свои чувства признательности, вполне чистосердечной, за доставленное чтением этим высокое удовольствие. Гоголь, по-видимому, еще не знакомый с этими успехами, был тронут и смущен; но он легко сблизился с многими, и за ужином уже очень дружески беседовал.
Вспоминая о встречах с людьми особенно замечательными, историческими, не следует пренебрегать никакими подробностями и упускать их из вида. Вот поэтому я не могу окончить рассказа моего о появлении Гоголя, при начале его литературной карьеры, в гостиной Воейкова, не упомянув о том, что за ужином как-то, ни с того, ни с сего, заговорили о строгости дисциплины в войсках, причем г. Сиянов уверял, что никогда дисциплина не была так строга как при императоре Александре Павловиче, между тем как В. И. Карлгоф доказывал и, кажется, довольно основательно, что дисциплина настоящего времени строже прежней, и уже по тому самому это очевидно что нынче не имели бы смысла те эпиграммы, какие тогда сложены были, так как нынче в столице офицер в фуражке или писарь на дрожках явления невозможные. Это подстрекнуло любопытство Гоголя, и он стал приставать к военным, чтоб они сказали эту эпиграмму всю как она есть, потому что он собирает все этого рода эпиграммы, которые иногда дают ему счастливые идеи для его наблюдательных очерков.
Господа Сиянов и Карлгоф отказывались от прочтения этой, впрочем, столь известной эпиграммы, отзываясь тем, что будто забыли ее стихи, и тогда Якубович, которому не чего было бояться гауптвахты, как не-военному, тотчас прочел Гоголю:
Когда в столице нет царя,
То беспорядкам нет и меры:
На дрожках ездят писаря,
В фуражках ходят офицеры!
- Стишки, - восклицал Якубович, - не первый сорт, не отличные, правда, да уж какие есть, такие есть! Чем богаты, тем и рады!
- Спасибо, спасибо, - говорил Гоголь, - я сейчас их запишу. И точно записал в вынутую им из кармана записную книжку в сафьянном переплете, приговаривая: Это все мне в пользу служит. Помяните мое слово что эти писаря на дрожках у меня где-нибудь с ужасным форсом пронесутся.
Я уже сказал, что Вечера на Хуторе были напечатаны в Литературных Прибавлениях, с включением в нее всего письма Пушкина, текста которого было больше чем, правда, хвалительной, но довольно холодно хвалительной рецензии за подписью: А. Якубович.
Однако это письмо Пушкина имело сильный эффект на Книгопродавцев, и книга Гоголя все больше и больше шла в гору, так что первое ее издание быстро разошлось, не взирая на то, что Полевой, вообразив, как уже читатель знает, что Рудый Панько - новый псевдоним Сомова, ругнул на чем свет стоит эту прелестную книгу, положившую основание славе Гоголя, которого мы вскоре видим приглашенным в числе литераторов на знаменитый Смирдинcкий обед по случаю столь же знаменитого Смирдинского Новоселья. В этом Новоселье, громаднейшем альманахе, альманахе-монстре, напечатана была прекрасная статья Гоголя: Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
XIII.
Прежде чем приступить к рассказу о последнем эпизоде, бывшем в моих глазах в конце 1836 года, то есть в последний год жизни Пушкина, умершего, как известно, в январе 1837 года, передам то, что в одну из пятниц пред этим эпизодом сообщил пятничной Компании собиравшейся у Вoейкова один из тех вестовщиков которые, при первом своем появлении в гостиной своего амфитриона, считали священной обязанностью заявлять о себе сообщением какой-нибудь новинки могущей или не могущей явиться в журнальчике на следующей неделе. На этот раз новость состояла в том, что заступничество Булгарина за Греча по делу главного редакторства Энциклопедического Лексикона улетучилось, так как Плюшар, по совету Сенковского угомонил Булгарина, предложив ему значительные выгоды в издании приготовленной тогда Булгариным книги: Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях, предполагавшейся в шести частях. Булгарин прельстился выгодами сделки с Плюшaром, увлекся любезностями соотчича своего Сенковского, которого стал посещать довольно часто, и забыл о своих пламенных обещаниях, какие, по приезде своем из Дерпта, делал Гречу. На том дело и покончилось. Замечательно словцо нечаянно тогда сказанное Смирдиным, по случаю продажи Булгариным своей книги Плюшару: Поляк Французу Россию продал.
- Браво! браво! брависсимо! вопил Воейков. - Браво, браво! Исполать Александру Филипповичу Смирдину и премного лет здравствовать. Молодец, право, молодец! Как ловко сказал: Поляк Французу Россию продал! Завтра же расцелую ценнейшего Александра Филипповича, всенепременно!
- Чему это вы так радуетесь, почтеннейший Александр Федорович, скажите на милость, - спросил вошедший в это время кудрявый желтовато-смуглый брюнет с довольно густыми темными бакенбардами, со смеющимися живыми глазами и с обликом лица южного, как бы негритянского происхождения.
То был Александр Сергеевич Пушкин, которого этот раз я близко видел во второй раз, в первый же раз я видел его у Н. И. Греча, который и представлял меня ему. На Пушкине был темно-кофейного цвета сюртук с бархатным воротником, в левой руке он держал черную баранью кавказскую кабардинку с красным верхом. На шее у него был повязан шелковый платок довольно густо, и из-за краев этого платка виднелся порядочно измятый воротник белой рубашки. Когда. Пушкин улыбался своей очаровательной улыбкой, алые широкие его губы обнаруживали ряды красивых зубов поразительной белизны и яркости. В конце 1836 года - это было то время в жизни Пушкина, когда его встречали на великосветских раутах и балах всегда унылого и задумчивого, это было то время, когда на каком-то костюмированном бале, кажется у графини Е. К. Воронцовой-Дашковой, где его Наталья Николаевна в костюме кометы подошла к нему, окруженная толпой блестящих молодых поклонников, и сказала ему по-русски: Что задумался, мой поэт, совсем не по-масляничному? Он ей отвечал:
Для твоего поэта
Настал Великий Пост.
Все мне мила моя комета,
Несносен мне ее лишь хвост!
В эту пору безотчетных предчувствий, которым, к горю нашему и всей русской литературы, привелось так скоро оправдаться, Пушкин затеял, по-видимому, для своего развлечения, издание своего Современника, которого только первый номер суждено было ему видеть. Посещая этот раз Воейкова не в какое-либо другое время, а именно в его назначенный вечер для литературной сходки, на каких сходках, правду сказать, было так мало истинно литературного, Пушкин, по-видимому, хотел дать почувствовать Воейкову что он не прочь вступить с ним в журнальный союз, потому Воейков, чуткий к такого рода проявлениям и в высшей степени мелочно тщеславный, пришел в неудержимый восторг и бросился лобызать плеча и грудь Пушкина, который хохоча звонким и немного визгливым, детским смехом, освободился из его объятий, быстрым взглядом, ясным, внимательным и все-таки несколько задумчивым, оглянул все общество и ласково, приветливо поздоровался с добрейшим и честнейшим бароном Егором Федоровичем Розеном, который, когда Пушкин уселся, отвечал ему вместо Воейкова на сделанный им при входе последнему вопрос: О чем все они сейчас смеялись?
- Мы смеялись сейчас, в то время как вы вошли, Александр Сергеевич, одному счастливому острому слову, сказанному нашим русским Ладвoка, то есть Смирдиным, насчет вашего друга Фиглярина, читай Булгарина.
- О! насчет друга моего Фаддея Венедиктовича! Скажите что это за острота, которой разрешился наш почтеннейший благодетель Александр Филиппович?
- Вы, - запищал барон, может быть, Александр Сергеевич, слышали про то, что Булгарин продал Плюшару право первого издания первых томов своей, или, как говорят, чужой книги под названием Россия, так по поводу этой сделки Смирдин сказал, что Поляк Французу Россию продал.
- Мais savez vous, que c'est fort joli, - cказал Пушкин. - Да именно: Поляк Французу продал Россию. Прекрасно! Завтра же скажу спасибо за это Александру Филипповичу и буду повторять повсюду во всеуслышание. Этим надеюсь усилить еще к себе любовь благороднейшего Фаддея Венедиктовича.
В это время Воейков хлопотал, собственноручно подчуя чаем своего знаменитого гостя и спрашивая: с чем он хочет пить чай, со сливками, лимоном, коньяком, вареньем или клюквенным морсом?
- Попрошу кисленького морса, - слегка ответил Пушкин и, выпив чая, который оказался слишком горяч, сказал:
- А, знаете ли, господа, ведь Фаддей Венедиктович приносит мне пользу в моем домашнем быту? Шутки в сторону, лучше всякого Песталоцци он помогает мне управляться с моими мальчуганами. Крошки еще такие, четырех-пяти лет, а пострелята все в папеньку. Но Фаддей Венедиктович, их мигом усмиряет, когда они зашалятся!
И при этом Пушкин принял с усилием, потому что хотел смеяться, пресерьезную мину; хотел же он смеяться, по-видимому, потому что Александр Федорович, вскинув очки на лоб, изображал собой комическую фигуру изумления, словно думал в этот момент: Чем чёрт не шутит, ну если чего доброго треклятый Булгарин втерся к Александру Сергеевичу в дом и интимничает у него в качестве гувернера или дядьки!
- Объясните, Бога ради, эту энигму, Александр Сергеевич! - восклицал Воейков, обращаясь к Пушкину, который в это время очень усердно занимался своим стаканом чая с морсом и погружал в него валдайские баранки.
- Энигма эта состоит в том, Александр Федорович, что Булгарин мне помогает в воспитании моих детей так. Худое что-нибудь сделал мальчик, у меня нет ему другого наказания, как: сегодня ты на два часа Булгарин, а не Пушкин, и поверите ли? ведь это наказание лучше всех углов, коленей и прочего действует. Пробыть Булгариным даже пять минут они привыкли считать великим горем для себя, и, ежели когда меня нет дома, нашалят как-нибудь, так уж нянька немка уверяет их, что как только папа вернется домой, она ему пожалуется, и папа накажет Булгариным. Нaкажет Булгариным! Ха! ха! ха! Не правда ли, что стоит России проданной Поляком Французу!
И он заливался звонким детским смехом, которому вторил одобрительный смех всего общества.
- А как мил Сенковский, - воскликнул вдруг Александр Сергеевич, - видели вы в Библиотеке для Чтения его убеждения и уговаривания, чуть не со слезами, чтоб я отказался от моего намерения издавать Современник? Да нет, вздор; шалишь, почтеннейший Осип или Иосиф Иванович!
- Не только я читал эти проделки, - завыл Воейков; - да уже приготовил на них критику, которую в следующем номере напечатаю.
- Ежели близка у вас эта рукопись, пожалуйста прочтите, Александр Федорович. Интересно, очень интересно, просил Пушкин.
- С величайшим удовольствием, - сказал Воейков и вынул из своего, постоянно при нем находившегося на столике портфеля, лист бумаги, с которого прочел следующее:
Пуглив же барон Брамбеус, ей-Богу, право, пуглив. Еще первая книжка Современника А. С. Пушкина скрывалась в таинственном свете будущего, а наш барон уже вздумал уговаривать издателя, чтоб он отступился от своего благого намерения, начал честить его поэтическим гением первого разряда, стращать его грязными болотами лежащими у подножия Геликона, и вредными испарениями бездонной их тины. Grimace, monsieur le baron, grimace! Мы сочли бы себя счастливыми, с умилением, почти со слезами, вздыхает наш добрый барон: если б эти замечания могли еще сдержать Александра Сергеевича Пушкина на краю пропасти в, которую он хочет броситься.- Лучше бы я сам не возразил, - смеялся Пушкин. Хорошо, хорошо, очень хорошо! Колко и умеренно! Спасибо, Александр Федорович, спасибо большое.
- Рады стараться, ваше высокопревосходительство! - воскликнул Воейков, ухмыляясь.
- Что вы так меня чересчур величаете, Александр Федорович? По званию камер-юнкера я, говорят, высокородие.
- А у нас в литературе русской вы генерал-фельдмаршал, - докладывал Воейков.
Пушкин. Ну полно нам лясы-то точить; а вот поговорим-ка лучше о деле, и именно о том чтобы держаться крепко против всех выходок Библиотеки и Фиглярина. Я могу только раз в месяц давать залп из моих тяжелых орудий; а вы имеете ежедневную газету, да еженедельную, так у вас стрельба может быть чаще.
Воейков. Только не из Инвалида: со времени гауптвахтенной истории, когда Греча, меня и Булгарина рассадили в три гауптвахты, я ничего полемического не помещаю в Казенной газете. А вот из Литературных Прибавлений будем разить еженедельно в том роде, как я вам сейчас прочел.
- Прелестно! - быстро сказал Пушкин. - Но вы коснулись гауптвахтенного события, случившегося тогда когда меня не было в Петербурге. Мне об этом писали друзья столичные.
- Ничего нет особенно любопытного в этом, - говорил Воейков. - Дело довольно простое - государь давно говорил графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу, что ему не нравится наша полемическая война, в которой мы задеваем и других, совершенно посторонних; что газеты должны служить чтением, сообщающим новости разного рода, а не сведениями о взаимных личных отношениях лиц издающих их. Но граф Бенкендорф не предупреждал нас достаточно серьёзно, чтобы мы могли понять всю степень царской воли, само собой разумеется, священной для каждого из нас. Ну, кончилось тем, что в одно прекрасное или не прекрасное зимнее утро, государь разгневался не на шутку, и вот к каждому из нас троих, то есть к Гречу, к Булгарину и ко мне явилось по фельдъегерю, и каждый из этих фельдъегерей исполнил данное ему повеление, отвезти каждого из нас на гауптвахту, предъявив, конечно, каждому из нас как документ нашего ареста, так и мотив этого распоряжения. Греч, как статский советник, в ту пору был препровожден на Сенатскую гауптвахту; я, тогда еще коллежский советник, был препровожден на Адмиралтейскую, а Булгарин, коллежский ассесор, на Сенную. Мы просидели, впрочем, только до вечера, когда каждого из нас жандармские офицеры отвезли к графу Александру Христофоровичу. Граф очень вежливо и любезно убеждал нас не входить в слишком резкую полемику, которую терпеть не может государь. У меня, признаюсь, язык чесался сказать, что публика-то лакома до наших петушиных драк, и что полемика самая ожесточенная между журналистами в Англии ведется как необходимая приправа журнала или газеты, почему бойцы сами хохочут своей распре и играют в нее, оставаясь между собой добрыми приятелями. Однако язык прилип к гортани, и я промолчал; но бойкий болтун Греч, словно знал мою мысль, высказал ее очень ловко, заключив: Ваше сиятельство! отсутствие полемики и этой постоянной между нами потасовки лишат нас многих сотен подписчиков. На это граф сказал: - О потерях не заботьтесь, и все чего бы лишились по подписке, как вы говорите, будет вам и вашим товарищам возвращено, ежели вы и ваши товарища докажете, что потери эти произошли не отчего другого, как от того что полемика перестала быть такой ожесточенною, как ныне. Несколько времени мы от полемических поединков воздержались; но потом государь император стал к этому менее строг, вследствие, как слышно было, ходатайства великого Князя Михаила Павловича, который очень жаловал чтение наших бумажных битв.
Нынче наша журнальная война дошла, кажется, до своего апогея; Сенковский ввел у нас по этой части прескверные нововведения, относясь к личностям и к произведениям с небывалым до него нахальством.
- Благодарю за эти сведения, которые впрочем для меня не совсем новость, - сказал Пушкин, - но вот обстоятельство очень мне любопытное, именно то о котором я слышал от многих, да ничего не слышал достаточно толково, именно обстоятельство вашего состязания с Булгаринской тантой*** (***тёща Булгарина). Правда ли это?
- Факт, правда, - отвечал Воейков, - только я не знаю, как он был вам передан.
- Мне сказывали, - объяснил Пушкин, - что танта, воспылав гневом на своего зятя, которого, слух носится, держит в ежовых, хотела его наказать за все эти неприятные и могущие повредить его фортуне, результаты его страсти к полемической тревоге, против которой она, танта, постоянно вооружалась в своем семейном быту и несколько раз брала с Фаддея слово, что он перестанет отвечать на чьи бы то ни было выходки против него. Вот как я слышал об этом.
- Вы, Александр Сергеевич, слышали не совсем то, что было. Было же то, что танта, напротив, соболезнуя о своем зяте и желая успокоить свой дочь, его жену, бросилась искать Тадeуша по всем гауптвахтам, не зная и не ведая, на какую именно он, сердечный, попал. Разъезжая по гауптвахтам, танта под вечер уже в сумерки приехала на Адмиралтейскую гауптвахту, где спросила: Тут есть ли журналист? Думая, что она спрашивает обо мне, караульный офицер отвечал ей, что в числе арестантов есть журналист, который, пообедав, лег спать на диване в особой, данной ему, комнате, где, по желанию его, потушен огонь, так как он объяснил, что любит спать в темноте. - О Jesus Мaria, - вскричала жирная, но очень подвижная эта старуха, смесь Польки, Немки и Жидовки, а мой либер, напротив, любил всегда спать при яркой лампе; но, может быть, эта перемена от избытка горя. Затем она просила позволения войти без огня в комнату, где спит ее зять, чтобы дружеским поцелуем разбудить его, и тогда уже просит пана капитана (офицер был новопроизведенный подпоручик) велеть внести огонь в комнату. И вот вдруг я чувствую, что во время моего сна какая-то фигура подошла ко мне, нагнулась и жирными руками, от которых пахло кухней и жареным кофеем, ухватила меня за темя, привлекая голову мою к своему лицу, причем обдавала каким-то теплым, далеко не благовонным дыханием.
Воейков не мог продолжать своего рассказа, потому что Пушкин был вне возможности его слушать. Кинувшись с ногами на диван, причем, в полном смысле слова, помирал со смеху, хохоча звонко и с легким визгом. Пришедши несколько в себя и вытирая слезы, Пушкин сказал, обратясь к Воейкову:
- Извините, Александр Федорович, мне мой обычный истерический припадок смеха. Так я всегда хохочу, когда речь идет о чем-нибудь забавном и менее этого. Да как же, мой почтенный Александр Федорович Воейков - Иосиф, так булгаринская жирная и, как он, Воейков, убедился, вдобавок, вовсе не ароматическая танта, играет с ним роль Пентефриевой жены. Это великолепно, это неподражаемо! Но кончайте, кончайте Александр Федорович!
Довольный произведенным эффектом, Воейков продолжал, не щадя прибавлений для красного словца.
- Ну кончилось тем что я проснулся, ощущая крепкий поцелуй на лице своем и слыша слова: - О! мейн либер Тадeуш! Тогда я вскакиваю, отталкиваю от себя ведьму, и, схватив мой клюку, которая всегда не вдалеке от меня, объявляю ей кто я и что она ошиблась. Слыша разговор наш, караульный офицер велел внести свечи, при свете которых танта в первый раз в жизни увидела пред собой ненавидимого ее зятем Воейкова, я же в первый раз увидел эту знаменитую танту, имя которой давно гремело в Кружке молодежи покончившей с будущностью на Петровской, Адмиралтейской и Дворцовой площадях 14-го декабря 1825 года. Танта устремилась на меня, как тигрица, с криком: - Ферфлухтер! и очень ловко успела, желая, по-видимому, дать мн. пощечину, сбить с меня парик и подшвырнуть его ногой. Это, признаюсь, раздражило меня до чрезвычайности, и я нанес моей клюкой два или три порядочных удара этой фурии, которую поспешили сторожа подхватить под руки и выпроводить, объяснив ей, чтоб она к зятю ехала на Сенную; но она в это время успела в два-три маха закинут мой парик на улицу в снег. Мне его, весь мокрый, с улицы принесли. Когда вечером мы все трое были, как я уже сказал вам, призваны в Кабинет графа Бенкендорфа, я ужаснулся того положения в каком находился мой бедный парик, помятый ножищами этой мегеры.
Пушкин был от природы очень смешлив, и когда однажды заливался хохотом, то хохот этот был очень продолжителен. И теперь, вспомнив снова фигуру Воейкова в объятиях старой танты Булгарина, Пушкин стал покатываться на диване и кусал, подушку, чтоб опять слишком громко не расхохотаться.
- А вот, Александр Сергеевич, - любезничал Воейков; - я с вас взяточку возьму: за мой вам рассказ, доставивший, по-видимому, вам немного удовольствия, удостойте вашим присутствием мой скромный дружеский ужин.
А между тем, какой уже скромный на этот-то раз? Появление Пушкина заставило Воейкова распорядиться секретно, и вот явилась такая великолепная, золотистая, откормленная индейка, в виде лакомого, дымящегося жаркого, фланкированного всевозможными салатами, что просто на удивление. Тут же стояла на блюде нога дикой козы, прекрасно изжаренная, также издававшая свой дымный пар и лакомый аромат. Турецкие бобы, шпинат и спаржа, прикрытые крышками блюд, привлекательно дымились. Все это должно было восхитить не только такого гастронома, каким был Пушкин, но и всякого человека мало-мальски способного понимать хороший стол и отличать его от плохого.
- У вас такие прекрасные вещи на столе, - говорил Пушкин, идучи с Воейковым под руку в столовую, - да и вы сами такой любезный хозяин, что я с удовольствием и не в виде взятки принял бы участие в вашем ужине; да беда, что доктор мне строжайше воспретил ночную еду. А по этому, я подвергну себя Танталовым мучениям, присутствуя за вашим прекрасным ужином, где одна эта индейка, по-видимому, с трюфелями, может с ума свести любителя.
- Но хот крошечку чего-нибудь, Александр Сергеевич, - тарантил Воейков, - пожалуйста. Впрочем, боюсь напомнить собой Демьянову уху.
- Вот, - заметил Пушкин, любовно смотря на блюдо дымящейся, несвоевременной спаржи, - позвольте мне этой прелести, да стаканчик сельтерской воды с пол рюмкой сотерна.
Воейков мигом усадил своего почётного гостя самым удобным для него образом и собственноручно угощал спаржей, сельтерской водой и Шато д'икемом.
Во все это время пребывания знаменитого Пушкина у Воейкова, на этом его пятничном вечере, я внимательно вслушивался в слова бессмертного, поэта, и, не будучи представлен ему хозяином, как впрочем и большая часть гостей, - не хотел выдвигаться вперед, скромно держась в стороне и даже стараясь так сесть, пока все были в гостиной, чтобы не быть замеченным. В статье моей Четверги у Н. И. Греча я уже говорил о том, какое впечатление тогда на Пушкина произвела моя, в то время, почти детская личность. С тех пор прошло несколько лет до этого вечера у Воейкова или второй моей встречи со знаменитым поэтом, и я думал, что Пушкин мог как-нибудь вспомнить меня, и ежели бы я стал теперь выказываться, то Бог знает как, ему могла понравиться такая навязчивость. Но за этим ужином мне привелось совершенно нечаянно сесть за стол против Пушкина, который, быстро взглянув на меня, обратился к барону Розену, сидевшему с ним рядом, и что-то шепотом спросил у него, не спуская с меня глаз. Розен, в ответ на вопрос, сделанный ему шепотом, громко назвал мой фамилию с подтверждением: Это тот самый юноша, которого несколько лет тому, кажется, лет пять, Н. И. Греч представлял вам в тот памятный четверг, когда вы были у него и своим появлением привели Булгарина в бегство. Мне, само собой разумеется, не оставалось ничего больше делать, как встать и поклониться. Пушкин, с любезной улыбкой, подал мне руку, костлявые пальцы которой снабжены были громадными ногтями, содержимыми впрочем, в величайшей холе.
- Вы все по-прежнему сотрудничаете в Пчеле? - спросил он. Я объяснил, что более не участвую в этой газете. Тогда он, смеясь слегка, спросил: - Ну, а биографией табачника Жукова занимаетесь? Шутки в сторону, а ежели у вас есть какие-нибудь любопытные подробности об этом ли самом Жукове, о других ли русских даровитых самородках, дайте мне для моего Современника. Я хотел объяснить, что такого рода материалами не богат, как вдруг Вoейков замычал своим завывающим голосом и, водя во все стороны глазами чрез очки, воскликнул:
- О! да у него, хоть сейчас в печать, есть совершенно свеженький с иголочки рассказ из жизни Василия Григорьевича Жукова, в котором играют значительные роли не столько сам Жуков, сколько первая его жена, Матрена Никитична, да камергер Б-в и его супруга.
- Какой Б-в? - спросил Пушкин.
- Да известный Гаврило Гаврилович, - ответил Воейков.
- А, - засмеялся Пушкин. - Это тот, что командирован был в Воронеж во время открытия мощей Св. Митрофания, после чего сверх страсти занимать деньги, у него развилась страсть к ханжеству до мономании, говорят.
- Эпизод, который знает юный биограф Жукова, продолжал неумолимый Воейков, - и рассказом которого не далее как на днях он утешил все общество у Вильгельма Ивановича Карлгофа, относится к тем временам, довольно давнишним, когда сюда приезжал из Тегерана, с повинной своего деда, шаха Персидского, молоденький принц Хозрев-Мирза.
. - Да, - заметил Пушкин, - тот самый мальчик лет восемнадцати который, когда представлялся императору, то долго не мог успокоиться, воображая, что русский падишах велит снести ему голову саблей, по их азиатскому обычаю, за насильственную смерть нашего посланника, этого бедняжки Грибоедова. Но в чем же состоит этот забавный рассказ, которым вы меня так разлакомили, Александр Федорович?
- Я не слажу рассказать вам эту уморительную историю, - объяснил Воейков, - а вот мы попросим об этом самого Владимира Петровича.
- Пожалуйста не откажите, Владимир Петрович, - подхватил Пушкин с очаровательной и увлекательной улыбкой.
Я, Конечно, не заставил себя просить дважды и рассказал весь этот анекдот, бывший между Жуковым с Б-вым и их женами. Впрочем, как теперь помню, насколько робея пред такой знаменитостью, каков был Пушкин, я старался повествовать, не распространяясь в подробностях и значительно сжал мой рассказ. Дело состояло в том, что Гаврила Гаврилович Б-в, прозванный в свете Говорилой Говориловичем, очень любивший занимать деньги направо и налево, разбогатевшему Жукову, сделавшемуся купцом 1-й гильдии и, в ту пору, главным городской столичной думы, сильно строил Куры, чуя возможность познакомиться покороче с внутренним содержанием его бумажника. Василий Григорьевич не умел заметить и понять причин всех Б-вских любезностей и верил им на слово, воображая что все эти звездоносцы, как он называл людей чиновных, на самом деле восхищаются его гениальностью. Пред днем церемонии представления Хозрева-Мирзы государю, Жуков объяснял Б-ву, сидевшему у него вечерком на его даче в Екатерингофе, что он, как гласный думы, должен будет находиться во дворце, где и увидит все вблизи и отличнейшим образом. А вот моя Матрена Никитича, то есть его жена, будет смотреть из окон квартиры их доктора, на Невском, в доме католической церкви.
- Помилуй, Василий Григорьевич, - восклицал Б-в, - помилуй, возможно ли это чтобы Матрена Никитична, жена знаменитого нашего мануфактуриста Жукова, смотрела торжество это с дворцовых хоров и не видела бы всей блестящей обстановки и царской фамилии! Нет, этому не бывать, нет, нет, не будь я Гаврило Б-в, у тебя для дорогой Матрены Никитичны завтра же будет билет на хоры в Зимнем Дворце, белый с золотым бордюром и с золочеными буквами. Конечно, чрезвычайно трудно достать такой билет на хоры; но ведь я не знаю невозможного никогда, для Василия же Григорьевича в особенности. Так Б-в льстил тогда тому самому Жукову, которого, под именем Васька, Жука, знал весь Порковский уезд, откуда он родом, имя же Василья Григорьевича мигом сделалось известно повсеместно, особенно после той удачной моей статьи, которая несколько лет сряду гремела и славилась, правду, впрочем, сказать, при усердном содействии самого Жукова, приобрётшего несколько тысяч оттисков этой статьи от Греча и рассылавшего ее по всей России со своими табачными произведениями. Но как бы то ни было, а билет на хоры был у Жуковых на другой же день. Жуков был вне себя от радости и тщеславия; а скромная и тихая его Матрена Никитична с ужасом и трепетом ожидала этого рокового дня, когда ей придется быть во дворце, в блестящем обществе, которому она охотно предпочла бы то общество, какое она могла ожидать встретить у своего доктора, Карла Богдановича. Однако делать было нечего: она, в черной шали, и в блондах, с цветами, в назначенный день раным-ранехонько отправилась в Зимний Дворец на хоры, куда забралась до того рано, что в эту пору там посетителей не было ни души еще, и она внимательно занималась рассматриванием и созерцанием дворцовых роскошей, присутствуя при работе полотеров наващивавших полы. Одного из них она даже с хор назвала по имени и отчеству, узнав в нем одного из полотеров, которые еженедельно натирают полы у них в доме. Приехав рано, почтенная Матрена Никитична имела возможность занять самое лучшее спереди место и видела все начало приготовлений к церемонии и съезд посетительниц на хорах, которые все принадлежали к высшему петербургскому обществу, почему, по тогдашнему обычаю, говорили между собой не иначе как по-французски. Однако великолепная, настоящая турецкая, белая шаль госпожи Жуковой, брабантские кружева и парижские блонды, в особенности обилие, хотя и безвкусное, бриллиантов самой чистой воды, привлекли к ней внимание многих, заведших с ней разговор по-русски. Все шло как по маслу, и Матрена Никитична сделалась даже посмелее и поразговорчивее, позволяя себе делать этим блестящим своим соседкам наивные валфосы насчет то того, то другого обстоятельства поражавшего и удивлявшего ее в зале, куда были устремлены ее глаза с величайшим вниманием, как вдруг появилась высокая, сухощавая, с весьма горделивой и повелительной осанкой барыня средних лет, вся в шелках и кружевах. Блестящая эта особа, запоздавшая и не имевшая возможности стать впереди, начала теснить Матрену Никитичну, требуя, чтоб она отодвинулась назад и предоставила бы ей место. Матрена Никитична учтиво протестовала, объясняя, что здесь места всем равные, и что кто позже приехал, тот не может требовать от других такой жертвы. Такую смелость Матрена Никитична приобрела, благодаря ласковым с ней разговорам ее соседок, которые, однако, тотчас, когда явилась горделивая претендентка на место спереди, приняли насмешливый вид и стали называть ее голубушкой-купчихой. Но Матрена Никитична все еще не сдавалась, и сохраняла свою позицию. Однако гордая дама, выведенная из терпения устойчивым стоицизмом коровы в золотом седле, как она изволила громко по-русски называть супругу знаменитого фабриканта, вдруг сказала Матрене Никитичне: Ежели ты, мужичка, да не оставишь этого места, я позову камер-лакея и велю тебя вывести отсюда, а потом тебя отправят в полицию. Эти слова, как громом поразила Матрену Никитичу; да, так, что она вся вся вспыхнула, потом побледнела и стала пятиться назад, предоставляя свое место горделивой своей антогонистке. Тогда все насмешливые улыбки и лорнеты, бывших ее по месту спереди соседок, обратились к ней. Она не вытерпела и поспешила выйти с хор, не дождавшись конца церемонии. С трудом нашедши внизу своего служителя из фабричных работников, одетого в какую-то фантастическую ливрею, она уселась в карету и возвратилась домой, где слезами, самыми горячими слезами разразилась ее горесть. Муж ее, как гласный думы, находился внизу, в зале и, облаченный в мундир со шпагой, видел хорошо все церемонию приема персидского уполномоченного. Василий Григорьевич, очень любивший свой Матрену Никитичну, возвратясь домой и нашедши жену полубольную в постели, огорчился и озаботился. Но она ничего о происшедшем ему не рассказала и все пояснила жестокой головной болью, ей причинившеюся от жары на хорах. Б-ву, приехавшему на другой день, было то же самое объявлено, и он рассыпался в самых восторженных сожалениях, сопровождаемых советами различных лечебных средств, долженствующих непременно оказать помощь самым радикальным образом. Его превосходительство даже готов был сейчас скакать в аптеку за какими-то волшебными гомеопатическими порошками. Все это имело в результате то, что когда господин камергер уехал, то Василий Григорьевич сказал: Вот истинный русский боярин! Святой человек! Ангельская душа. Дня через два Гаврило Гаврилович заехал узнать о состоянии здоровья Матрены Никитичны, которую благодарение Богу, застал в вожделенном положении, распоряжавшуюся по своему домашеству. В этот день Б-в особенно усердно хвалил все на даче Жукова. Это восхищало самолюбивого хозяина, который пришел просто в восторг, когда генерал объявил ему что на днях он приедет к ним не один, а со своей женой, Катериной Петровной, которая страстно любит ягоды и фрукты, а всего этого Жуковская оранжерея (по истине преплохая) доставляет в избытке. Решено было назначить день для приема их превосходительств. Приготовления были самые блестящие, затеям и разного рода сюрпризам не было конца. Наконец наступил этот желанный день, когда на двор Жуковой дачи, усыпанный красным песком, въехала голубая карета, запряженная четверней и с лакеем в пунцовой ливрее с золотыми галунами, пунцовой на том основании, что камергеры пользуются правом употреблять этот привилегированный для дворцовых ливрей цвет. Карета остановилась в упор к крыльцу, на котором стояли хозяин и хозяйка дачи, принявшие с благоговением знатную барыню, весьма щеголевато одетую. Барыня эта и была госпожа Б-ва; а Гаврила Гаврилович, высадив ее из кареты, рассыпался мелким бесом и сильнейшим образом тарантил, делая вид что вовсе не замечает, как сконфузилась и растерялась добрейшая Матрена Никитична. Гаврило Гаврилович отнес этот конфуз хозяйки ни к чему другому, как к чувству глубокого уважения к его блестящей и много внушительной супруге. Угощение шло сильное, и пробыв часа два, Катерина Петровна уехала, увезя в своей карете целые груды разных фруктов и ягод, конфет, бисквитов и пирожков, с несколькими бутылками сливок наивысочайшего качества. Только-что голубая карета унеслась со двора и покатила по шоссе, Жуков напустился на неловкости своей Матрены Никитичны, и с огорчением упрекал ее в неумении принимать таких важных барынь, какова Катерина Петровна Б-ва, супруга камергера двора его величества и действительного статского советника со звездой. Тогда Матрена Никитична, дав мужу покапятиться, не утерпела и навзрыд заплакала, причем открыла Василью Григорьевичу всю правду; а правда состояла в обиде ей нанесенной на дворцовых хорах знатной барыней, намеревавшуюся отправить ее, жену почётного купца-фабриканта в полицию. Узнав это происшествие, Жуков сильно раздражился; но он еще больше озлился на Б-вa когда узнал, что сильный конфуз Матрены. Никитичны при встрече с г-жей Б-вой произошел ни от чего другого, как оттого что она в барыне гостье узнала ту барыню которая хотела посадить ее в полицию, на хорах Зимнего Дворца. Однако добрая и весьма неглупая Матрена Никитична уговорила мужа не делать из всего этого никакого шума, чтобы не пустить в их кругу, наполненном завистниками в ход этого несчастного происшествия, в котором ей привелось играть такую страдательную и несчастную роль. Не прошло после этого разговора и недели, как явился Гаврило Гаврилович и, отведя Жукова в сторону, стал просить у него под заемное письмо полторы тысячи рублей, тогда еще ассигнационных. Жуков сказал Б-ву, что он за счастье почел бы угодить его превосходительству, да в эти дни произвел огромные платежи банкирским конторам за табак и теперь гол как сокол, имея только то, что необходимое на содержание фабрики и дома с дачей. Но я не отпущу ваше превосходительство без спрашиваемых вами денег. Изволите видеть, у моей Матрёши есть капитальчик тысчонки в три, который состоит из ломбардных билетов. Сейчас я ее позову, и ежели она согласна будет на выдачу вам полутора тысяч рублей, то вы деньги эти тотчас получите.
Нечего разъяснять, что согласие, как и ожидать можно было, со стороны Матрены Никитичны последовало, и дело было, как говорится, в шляпе. Б-в был в восторге, который в нем дошел до такого пафоса, что он чмокнул руку добрейшей Матрены Никитичны, чем необыкновенно ее сконфузил. Жуков, однако, при всей своей доброте и при всем своем глубоком уважении к генеральству, не мог отказать себе в удовольствии хоть сколько-нибудь отмстить за жену, оскорбленную его женой, и сказал: Вот и хорошо, ваше превосходительство, что ее превосходительство, ваша Катерина Петровна, не успела посадить мой Матрёшу в полицию, потому что тогда, само собой разумеется, вам не видать бы ее денег, в которых, кажется, вы таки изрядно нуждаетесь. Ну, конечно, Б-в сделал вид, что в прах превратит за это Катерину Петровну; но кто знал как он крепко находился под башмaком своей Катерины Петровны, хорошо понимал, что все эти слова не что иное как мыльные пузыри не больше.
Во время всего этого моего рассказа, А. С. Пушкин посмеивался и при этом бросал мне ласковые взгляды. По окончании же рассказа Пушкин несколько времени беседовал об этом сюжете с Воейковым, с бароном Розеном и с другими, причем сказал, обратясь ко мне:
- Рассказом этим я завладею для первого номера Современника или для будущего нового издания Повестей Белкина.
Затем Пушкин обратился к Воейкову и сказал: - А вот теперь я с вас, Александр Федорович, попрошу взятку себе, или хоть снисходительное одолжение, - сказал Пушкин улыбаясь.
- Я весь к вашим услугам, Александр Сергеевич, вопил Воейков, уверенный, что речь будет не больше как о какой-нибудь предварительной рекламе в Инвалиде.
Пушкин. Бога ради, Александр Федорович, поместите меня в ваш Дом Сумасшедших, чрезвычайно обяжете, чрезвычайно. Там у вас есть и препорядочные люди, как Батюшков, Жуковский, Шишков, Карамзин.
Воейков (перебивая его). Я бы дал остаток моей жизни, ежели бы мне следовало прожить еще столько сколько прожил доныне, чтобы только все забыли эти несколько моих гнусных стихов на добрейшего моего благодетеля Николая Михайловича. Но что написано пером, того, к несчастию, не вырубишь топором. Эти стихи мой вечный позор, то я сам не знаю, как я мог их написать, я, бессовестная скотина, наполнив их самой бессовестной ложью, относительно будто бы эластических правил добродетельнейшего Николая Михайловича. Стихи эти были написаны в момент какого-то сумасшедшего и нелепого раздражения. Стихи эти уже достаточно наказали меня, заперев мне навсегда как двери сердца, так и двери квартиры Василия Андреевича Жуковского.
Пушкин. Мало ли чего не бывает на свете. И мне случалось, в минуту горячки, писать не то что чувствовал. И я себе не прощу никогда моих шуточных эпиграмм на добрейшего из добрейших генерала Инзова, когда я жил и служил в Одессе. Но не в этом дело. А зачем вы не хотите поместить меня в вашем Доме Сумасшедших?
Воейков. Затем, что в вас, как в поэте, нет на одной из тех странностей и эксцентричностей какие есть у других и которыми в особенности богат Жуковский. Как о человеке, в сатире мне об вас говорить нечего, ежели я не сделаю, относительно вас, того же что сделал так подло так гнусно, относительно Карамзина. Словом, вы для сатиры не годитесь. А впрочем, подождите, может быть, как журналиста, можно будет вас немножко попортретировать.
Пушкин. Будем ждать местечка в Доме Сумасшедших Воейкова, хоть, например, для Пушкина-журналиста. Благо недолго ждать: через два месяца начнется моя журнальная деятельность. А вот у меня в коллекции есть почти все ваши прежние члены Дома Сумасшедших; но, к сожалению, я не имею ни Магницкого, ни Ширинского. Пожалуйста, продиктуйте мне их, Александр Федорович.
Воейков. Зачем мне вам их диктовать? Послезавтра утром я сам привезу к вам копию всего моего Дома Сумасшедших, за исключением Карамзина. Извините только, что писано будет моим стариковским почерком.
Пушкин (жмет ему руку). - Тысяча благодарностей. Я знаю что ведь вы почти ни для кого не проявляете такого рода любезности, потому особенно вам благодарен за ваше ко мне внимание и постараюсь за ваше золото отдать хоть моей бронзой.
Когда же Пушкин прощался с Воейковым и собирался уехать, Воейков, выйдя за ним в переднюю, спрашивал:
- Так завтра или самое позднее послезавтра я доставлю вам, Александр Сергеевич, непременно все дополнения моего Дома Сумасшедших.
- Сделайте одолжение, - сказал Пушкин, надевая шубу из рук слуги и закутываясь шарфом, - сделайте одолжение, Александр Федорович, особенно стихи о Магницком.
- А наших друзей журналистов? - спрашивал Воейков, посмеиваясь.
- Ну, и их, и их! - произнес Пушкин уже в дверях в сени, откуда слышны были слова его: - прощайте, Александр Федорович, прощайте, не простудитесь.
То были последние слова, какие я слышал из уст Пушкина при жизни его.
Спустя два месяца после этой моей встречи с Пушкиным у Воейкова, не стало бессмертного поэта.
В третий раз в течения моей жизни я видел Александра Сергеевича Пушкина два месяца после этого вечера, в конце января 1837 года, уже в гробу. Квартира великого поэта, на Мойке, близ Певческого моста, в доме княгиня Волконскoй, была сильно атакуема публикой, беспрестанно стремившейся прощаться с покойным поэтом, который, как сам выразился в своих беспримерных стихах, воздвиг себе памятник нерукотворный в каждом русском сердце. Гроб Александра Сергеевича был окружен с утра до поздней ночи, да и ночью даже, ревностными его поклонниками, из которых было немало сменявших ночных чтецов Псалтыря и читавших на них сами.
Я, пока тело поэта в течение трех суток находилось в доме, приходил поклониться ему по два раза в день, и потому, ежели бы владел кистью или пастельным карандашом, то есть вообще ежели бы я был художник, мог бы изобразить весьма верно Пушкина в гробу, по крайней мере, вернее, чем тот портрет, который был тогда же налитографирован и пущен в продажу.
Скажу теперь только то, что Пушкин был положен в любимом своем темно кофейном сюртуке, в котором я видел его в последний раз у Воейкова.
А. Ф. Воейков в 1838 году продал свои Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду Плюшару, который поручил редакцию этой газеты А. А. Краевскому, а в 1841 году эта газета явилась уже с иллюстрациями, очень искусными и изящными, под названием Литературной Газеты. В 1837-1838 годах А. Ф. Воейков, влияя сильно на тогдашнего богача В. Г. Жукова, успел уговорить его учредить типографию и издавать книги, что и началось огромным обедом, данным в залах типографии, на который собрались все наличные тогда в Петербурге литераторы. Замечательно, что эта типография, Жукова и Воейкова, устроена была в Сенном, грязном и смрадном переулке, в том самом доме из окон которого в 1831 году, когда свирепствовала первая холера в Петербурге, чернь бросала докторов, так как тут устроена была центральная холерная больница. Когда-нибудь я подробно поговорю об этом оригинальном обеде, слегка описанном в Воспоминаниях И. И. Панаeва. А теперь скажу только, что А. Ф. Воейков умер в 1839 году здесь в Петербурге.