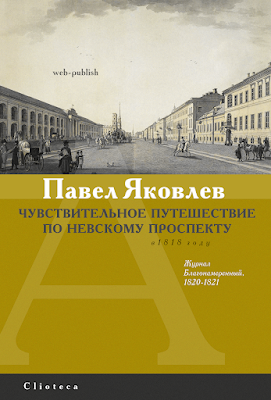Моя комната, мая 1818 г.
Я страстный охотник путешествовать; не знаю, что поселило во мне эту страсть? Природа? Конечно Природа! Я объехал все части света; все видел, все узнал... но, увы я ездил в воображении - все видел - в мыслях; все узнал из книг господ путешественников! Так, Мм. Гг! я страстный охотник путешествовать и никуда не выезжал из Петербурга, даже не был в Кронштадте!
Что делать? Природа поселила во мне охоту странствовать - Судьба никуда не пускает. Не хочу исчислять всех предположений моих, всех мысленных путешествий туда и сюда; не хочу рассказывать как неприязненная судьба уничтожала все мои предположения! Несмотря на то, охота моя не прошла; нет! сию же минуту готов хоть на край света - куда угодно; судьба жестокая, неумолимая судьба приковала меня к Петербургу!
Со всей моей охотой сижу дома, и перечитываю путешественников! Как я им завидую! Счастливые, счастливые люди! Но кому не наскучит такое самовластие Судьбы? Свергаю с себя тяжелое иго и отправляюсь путешествовать! О радость! о восторг! Я путешествую! Куда же я еду? Я... иду, Милостивые Государи! иду на Невский проспект. Да, я хочу написать путешествие по Невскому проспекту: и на первый случай опишу мои странствия, похождения, приключения, замечания, мечтания от Адмиралтейского бульвара до Аничкова моста. Судьба! я смеюсь над тобою! Я путешествую!
Но путешествовать по Невскому проспекту? Что это за путешествие? Как? Разве нет путешествия в карманы, путешествия по кабинету и мало ли каких других путешествий? Я знал одного доброго человека, который Путешествовал в постели! И вот каким образом. Он, так как и я был страстный охотник путешествовать; не знаю, какие причины удерживали его дома; знаю только, что он, так как и я, нигде не бывал кроме своей деревни. Этот добрый человек обыкновенно лежал на постели, а подле себя, на столике, ставил колокольчик. Вот он лежит, спит, просыпается и звонит. Входит человек ...
- А-а! мы на станции, - говорит мои путешественник - пуншу! Приносят пунш; он выпивает его и ложится. В полдень просыпается и звонит. Входит человек... - А-а! мы на станции! - говорит мой путешественник, - не худо бы позавтракать! Приносят водку и закуску. Он пьет, ест и опять ложится спать. В три часа просыпается, звонит. - А-а! мы на станции, - говорит он, - давай обедать! Ест, пьет и ложится спать.
Вечером опять просыпается и звонит. - Сколько мы отъехали? - спрашивает он вошедшего слугу. - Двести верст, - отвечает тот. - Хорошо, хорошо! давай же ужинать! ужинает, ложится спать, и спит до утра. На другой день едет опять таким же образом, и вот как путешествовал мой добрый человек во всю жизнь свою!
В погребчике было столько штофов с водкой, сколько в губернии городов. Мой путешественник обыкновенно отправлялся с утра по губернии; и иногда объезжал две губернии в день. В каждом городе находил или знакомых, или родных; здоровался с ними, разговаривал, прощался и ехал далее. И вот каким образом с помощью погребцов с водкой проехал он всю Малороссию и ездил до тех пор, пока не отправился в самое дальнее путешествие - на тот свет.
Признаюсь - я не в силах подражать этим господам, потому что не чувствую в себе довольно мужества к перенесению таких походов. Я путешествую по-своему. Кажется, никто еще не описывал своего путешествия по улицам города, в котором прожил пятьдесят лет; следовательно я первый изобрёл такой род путешествия.
Я знаю, давно знаю все приемы путешественников; и по примеру их, и я, прежде отправления в путь, прочитал все Путешествия, бывалые и небывалые (чтоб освежить память) и также, по примеру их, запасся паш-портом, бумагой, карандашом и самой необходимой везде вещью - деньгами! Прежде отправления в путь сажусь на свой диван и, с горестью смотрю на окружающие меня предметы. Невольная грусть!
Я расстаюсь с теми, с которыми прожил пятьдесят лет! Я отправляюсь путешествовать и Бог знает, когда возвращусь! Может быть, кто знает - кто может исчислить все неприятности, все опасности которым подвергается Путешественник? Возлагаю мое упование на Провидение, и прощаюсь с домашними! Я иду; я путешествую!
Я стою у Адмиралтейской башни. Налево площадь - на право площадь; передо мною длинная улица: это Невский проспект. Еще рано. Только что пробило девять часов. Кой-где мелькают кареты; пешеходы (люди деловые, должностные, с пакетами, с бумагами, завернутыми в разноцветные платки), пешеходы скорым шагом спешат в свои Департаменты, Канцелярии, Коллегии, Правления, Палаты, Суды. Сажусь на скамейку - надобно собраться с мыслями, надобно хорошенько обдумать, расчислить.
Я стою у Адмиралтейской башни. Налево площадь - на право площадь; передо мною длинная улица: это Невский проспект. Еще рано. Только что пробило девять часов. Кой-где мелькают кареты; пешеходы (люди деловые, должностные, с пакетами, с бумагами, завернутыми в разноцветные платки), пешеходы скорым шагом спешат в свои Департаменты, Канцелярии, Коллегии, Правления, Палаты, Суды. Сажусь на скамейку - надобно собраться с мыслями, надобно хорошенько обдумать, расчислить.
Путешествовать не то, что прогуливаться! Я смотрю теперь на все другими глазами; все вижу не в том виде, в каком все казалось мне прежде; и не мудрено! Я прогуливался, а известно, что прогуливаются для удовольствия, для движения, для воздуха, от безделья.
Какого же рода я путешественник? Вот о чем я еще и не думал! Думаю и решаю, что лучше всего быть путешественником сентиментальным. И так честь имею рекомендоваться: я сентиментальный путешественник! Выгода моя в том, что я могу писать все, что мн. вздумается; могу даже выдумывать (между нами будь сказано); могу в путешествии своем ставить без числа восклицательные знаки... точек сколько угодно! К тому же сентиментальные путешественники что- то смолкли! Неужели весь запас вздохов, слез, веточек истощился? А воспоминания? О! воспоминания!
Итак, идем прямо! Пойдем прямо! Знаете ли, как мудрено ходить прямо, то есть идти прямой дорогой? Надобно беспрестанно сворачивать из уважения, из учтивости: а кто раз сворачивал с прямой дороги, тот, не правда ли? тот шел сторонкой, другой дорогой. Это ясно! Вот и я не могу идти прямо по тротуару; должен своротить на мостовую: со мною встретились дамы и с ними... Генералы! Вижу налево кондитерскую лавку Лареды. Пойдем и выпьем шоколаду!
ЛАВКА ЛАРЕДЫ
Вот что думал я, стоя у Адмиралтейской башни и подходя к лавке Лареды. Эта лавка одна из лучших кондитерских в Петербурге. Хвала господам Швейцарам. Они лакомят всю Европу. Кабинеты в лавке хорошо убраны, есть фортепиано и инвалид - Гамбургский Корреспондент - Петербургские ведомости. Сажусь у окна, беру Инвалида - пробегаю новости поглядываю на тротуар, пью шоколад и думаю и мечтаю!
Прекрасное изобретение кондитерские лавки! Сюда стекается множество людей разных состояний: чтоб отдохнуть, позавтракать, прохладиться, поговорить. Я рассказываю, кажется, новости? Но разве чувствительные путешественники не рассказывают нам, что в Германии, в Италии, во Франции, в Англии есть трактиры, в которых можно напиться чаю? Не мешайте вы, люди холодные, рассказам чувствительных путешественников!
Чувствительный путешественник не обязан отдавать отчета ни в мыслях, ни в поступках своих. Знаете ли, что дом, в котором эта лавка Лареды один из древнейших в Петербурге? Нет? Так прочитайте описание Петербурга, которое также ветхо, как и этот дом. Жалею, что не могу подробно рассказать, кто его строил, как он переходил из рук в руки. Может быть в нем, жил какой-нибудь Герцог, Герцогиня, Принцесса. Но это не мое дело - я Сентиментальный Путешественник!
Входят трое молодых людей... требуют шоколаду; они садятся против меня. Не грех послушать разговоры в публичном месте. Послушаем. Я догадываюсь - это Поэты. Все подтверждает мою догадку: свертки бумаг, очки, восклицания: ах! и увы! движение пальцев, которые считают стопы на столик. Приносят шоколад.
- Прекрасный шоколад! - говорит один.
- Несравненно лучше сварен того кофе, которым поил нас Цет, - прибавил другой.
- И вкуснее твоей смольной и янтарной влаги! - сказал третий второму.
- Тебе не нравятся эти стихи, - отвечал второй. Не мудрено, они писаны гекзаметром, которого до сих пор никто не понимает.
- Зачем же писать для того, чтоб не понимали? - спросил третий.
- Спроси о том у Цета.
Все захохотали.
- Да кончил ли ты свое послание? - спросил первый у третьего.
- Нет еще.
- О, я уверен, что оно займет первое место между лучшими посланиями в этом роде.
- А твое Мечтание? - спросил третий у первого, - уже напечатано, я доставлю тебе экземпляр.
- Благодарю! Вез лести: я ничего не читал лучше!
- Ну, брат, прочти же нам свою Поэму.
Они допили шоколад и второй начал читать - прочел.
- Прелестно, прелестно! - закричали двое, - у нас не было еще такого перевода!
Она встали, пожали друг у друга руки - расплатились и ушли.
Добрые молодые люди! думал я - Дай Бог, чтоб все Поэты так хвалили друг друга, и жили между собою в таком согласии, как вы. Пусть стихи ваши не нравятся другим, пусть не понимают ваших гекзаметров; для вас не нужна похвала тех, которые вас не понимают; вы довольны сами собой! Хвалите друг друга, превозносите друг друга, пишите гекзаметры, пишите послания и не заботьтесь о современниках.
Однако я не понял стихов, которые прочел господин второй, хотя они были написаны и по-русски, ничего не понял, кроме, начального: пою…
Вероятно я начал свое путешествие: пойдем же далее, пойдем! Будущее, или отдаленное, то есть неизвестное, грядущее - что сокрыто в тебе? Какие происшествия ожидают меня в моем странствии? Может быть, ужасные, или смешные - или ....
Я иду - Прости, Лареда!
Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено;
Гони природу в дверь, она влетит в окно.
Кто с этим не согласен? Я, например, чувствительный пятидесятилетний путешественник, я точно таков же, каким был в училище и путешествовал по азбуке. Также скор, болтлив и непостоянен. О! непостоянен, как женщина. Не знаю, скучал ли я другим? (скучаю ли теперь? О мои бедные читатели! это вам известно!)
Но признаюсь - мне все наскучило, и я до пятидесяти лет все желаю, желаю нового - как быть! Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено. Прежде я скучал азбукой, желал поскорее начать Грамматику, потом скучал Грамматикой, и т. д. После желал скорее выйти из училища, после определиться в службу. Непрестанно желал и желаю... и едва исполнится то, чего с таким нетерпением ожидаю - я недоволен, скучен и т. д.
Кто более моего желал путешествовать? Наконец я путешествую, и уже все мне наскучило, и я тороплюсь дойти до Аничкова моста. Там конец подвигам. Там сворочу с Невского проспекта и побреду домой, в свою комнату... желать нового. И что за страсть к путешествиям? Не лучше ли, не желая славы ни учёного, ни сентиментального, ни наблюдательного путешественника сидеть дома, и смотреть издали на всех,
Которые и едут, и ползут,
И скачут и плывут,
Из царства в царство рыщут
И дочери Судьбы отменной красоты,
Иль убегающей Мечты
Без отдыха столь жадно ищут.
Пусть говорят, что надобно хорошенько осмотреть свет прежде, нежели оставить его. Правда; но что видеть? Одно и тоже везде! Те же люди, те же страсти, те же добродетели и пороки, как говорит Лабрюйер.
Которые и едут, и ползут,
И скачут и плывут,
Из царства в царство рыщут
И дочери Судьбы отменной красоты,
Иль убегающей Мечты
Без отдыха столь жадно ищут.
Пусть говорят, что надобно хорошенько осмотреть свет прежде, нежели оставить его. Правда; но что видеть? Одно и тоже везде! Те же люди, те же страсти, те же добродетели и пороки, как говорит Лабрюйер.
Одним словом, я объявлю себя врагом всех путешественников и желаю, но прежде напишу грозное воззвание к этим охотникам до наблюдений - к этим космополитам, и докажу, что всего хуже путешествовать. Но для исполнения этого желания, я желаю кончить мое путешествие по Невскому проспекту. Извините, терпеливые читатели, если приметили, что я тороплюсь домой.
Но я еще далек от конца моего странствования. Вот еще гостиный двор. Нет, не пойду туда - незачем. Вот направо книжные лавки. Опять книжные лавки! Я в нерешимости, идти ли туда, или продолжать путь мои далее.
Нет, не пойду, надобно сворачивать с проспекта; я не могу в одно время идти по двум дорогам. Но не знаю, какое-то невольное любопытство влечет меня к этим лавкам. Нет, не пойду, сяду на лавочке и буду издали смотреть на эти золотые вывески, книжные лавки, книжные магазины. Как жаль, что теперь нет со мной описания Петербурга; мне бы хотелось выписать оттуда статью о книжных лавках, с которого года проявились они в Петербурге, как распространялась книжная торговля, и пр.
Но отчего эта торговля не распространяется более и более? Например, почему у нас нет такого расхода на книги, как в Германии и Франции? Не потому ли, что мы выписываем оттуда книги, а они не выписывают наших? Так, но и от того, что и у нас, в самой России, еще не тысячи любителей чтения. Говорят, будто в провинциях еще только дочитывают книги Новиковой типографии, а в столицах, я сам знаю, на книги расход невелик. Богатые и обязавшиеся иметь библиотеки - их немного! а гг. сочинители, журналисты, переводчики, не разоряются на покупку книг.
Бедные! бедные книгопродавцы! Но будет время, как патриот желаю, чтобы оно скорее пришло - будет время, и у нас книжная торговля распространится - книгопродавцы и сочинители разбогатеют, народы Азии, узнав все выгоды связей с Россией, почувствовав необходимость знания Русского языка, мало-помалу начнут учиться ему.
Вкус к чтению Русских книг усилится между ними, и полные короба Русских книг полетят в Хиву, в Киргизскую степь, в Бухарию, Афганистан... оттуда далее, далее... далее, далее. Сверх того у нас откроется новый класс людей: учителя, подобные французским учителям, и мадамы того же достоинства; учители и мадамы поскачут просвещать варваров; за ними модные торговки, актеры... Боже мой! какое прелестное будущее! Я уверен, что все это исполнится прежде, нежели наши книгопродавцы выучатся Русской грамоте.
Но я забыл, что тороплюсь домой... идем далее. Библиотека, за ней театр. Если б только я не торопился домой! Но всякий путешественник бывал и в Библиотеке и в театре.
Правда, всякий Петербургской житель также бывал в обоих, и я, под защитой этого оправдания, иду ужинать к одному доброму приятелю. Аничков мост близенько. В Петербурге не ужинают, или в Петербурге люди хорошего тона не ужинают, т. е. не накрывают стола скатертью и не подают суп, но все тоже едят, что и за обедом.
Приятель мой, к которому я зашел, человек не лучшего тона - он управляющий - и ужинает, т. е. у него стол накрыт скатертью и подают суп. После ужина, поговорив о том о сем, захотел я узнать, что за толстая книга лежит у него на письменном столе? - Реестр жильцам. - Это любопытно. А сколько у тебя жильцов? - Во всех четырех этажах 84 человека. - Это казармы! - Зато, каких только людей нет в этом доме!
Сюда можно приехать Лапландцу в своем национальном платье, и через час никто его не узнает, и он пойдет по Невскому проспекту, как любой из наших франтов! Здесь живут: портной, сапожник, модная торговка, танцмейстер, актер, кондитер, булочник, погребщик, сочинитель, и пр. и пр. Здесь все есть... Люди всякого звания, всякого состояния, возраста, пола помещены в четырех этажах как в корабле. - Тебе много забот? спросил я моего приятеля. - Много, - отвечал он; - но я привык к моей должности.
- Расскажи мне что за люди живут у тебя? - Лучшие комнаты во втором этаже за пятнадцать тысяч рублей в год нанимает один отставной Титулярной Советник. - Богатый? - Не знаю... судя по комнатам, по экипажам, по связи его с лучшими людьми в городе, можно понять, что не беден. - Но его маленькой чин?
- Что ж делать? надобно выдержать экзамен; а он, кажется, не бойко учен, хотя лет пятнадцать был учителем в каком-то уездном городе. Другую половину занимает француженка, приехавшая для собрания долгов от наших Офицеров, бывших в Париже. Каждый вечер у нее большой съезд и расплата. В первом этаже живописец-француз; в третьем актер, сочинитель-итальянец.
- Актёр русский?
- Нет, немец из посредственных, однако получает порядочное жалованье.
- А сочинитель?
- Сочинитель не платит уже третий год за квартиру: все без места. Он приехал из какого-то университета; обнадежили его, что в Петербурге и места и чины и кресты, все для него готово. Он приехал, да еще ничего не получил и без книгопродавца пропал бы. А тот дает ему кой что переписывать: Песенники, Оракулы, азбуки... Итальянец скоро съезжает; купил дом недалеко отсюда.
- А давно ли он в России?
- Третий год. Все торговал помадой. Живописец-русский также кое-как перебивается. Русские живописцы, говорят, теперь не в моде. В прочих этажах все маленькие комнатки внизу лавки.
- А сколько приносит в год дохода весь этот дом?
- Сто десять тысяч рублей.
КЛУБ
Со мною встретился один давнишний приятель: приезжий из Костромы; мы вместе учились и не видались лет пятнадцать. Давно, очень давно! Он остановился в Лондоне, и я вынужден был, в угождение ему, опять возвратиться в эту гостиницу. Тут поговорили мы о прошлом и настоящем, пообедали и пошли в Клуб, большое танцевальное собрание.
В Петербурге несколько Клубов: Английский, Большой Танцевальный, Купеческий, Мещанский, Маленькой Танцевальный, Американский. В Английский едят богатые чиновники; в Большой Танцевальный: люди среднего состояния, молодые любители Бостона и Виста, расчётливые старички в Мещанский; такой же народ с прибавлением тысячи мастеровых Немцев; в Маленький Танцевальный подмастерья. Я член Большого Танцевального собрания.
Хожу туда почти каждый день обедать, ужинать, читать газеты, курить табак и смотреть на игроков.
В Субботу члены имеют право приводить с собой гостей; сегодня Суббота и я привел с собою моего приезжего. Отдав свои шляпы немцу, которого называют швейцаром, входим. Первая маленькая комната - официантская; стены ее увешаны рамами, в которых заключены правила для членов, списки о долгах и театральные афиши.
В Субботу члены имеют право приводить с собой гостей; сегодня Суббота и я привел с собою моего приезжего. Отдав свои шляпы немцу, которого называют швейцаром, входим. Первая маленькая комната - официантская; стены ее увешаны рамами, в которых заключены правила для членов, списки о долгах и театральные афиши.
Налево столовая; направо большой танцевальный зал. Проходим комнату, другую, третью - никого нет: гг. члены и посетители еще обедают. В Газетной сидит немец, бело напудренный, с хохолком, и в глубоком молчании наслаждается чтением Гамбургского Корреспондента. Садимся подле него и перебираем Русские Журналы.
Но вот зашумело, и толпа людей нахлынула в комнаты; голоса раздались - трубки закурены - поданы карты. Все комнаты заставлены столами, игроки по местам. Входим в круглую комнату, где уже раздавались слова: бостон - два леве- окри- четырнадцать дамб и прочее. Сядем у окна. - Кто эти четверо играющих? - спросил у меня мой товарищ. - Слушай: прямо против тебя сидит удивительный пешеход. Каждый день приходит он сюда с Петербургской стороны, а во втором часу ночи опять туда возвращается.
Время его расположено всегда одинаково: утром идет он в свой Департамент недалеко отсюда; обедать возвращается домой на Петербургскую сторону, после обеда идет в Клуб. Здесь играет в бостон по пяти копеек, курит трубку и пьет черное пиво.
Направо, старик отставной. Изобретатель пластыря для лошадей; если бы не страсть к картам, он разбогател бы очень скоро, потому что Россия золотое дно для шарлатанов. Налево с большим брюхом, с румяными щеками и с сигарой во рту - Доктор. Он вечно здесь и лечит одних только членов здешнего Клуба; не правда ли, что он здесь очень полезен. Задом сюда, сидит сын таможенного Смотрителя; которому отец присылает деньги для раздачи здесь игрокам.
- А этот с огромной трубкой?
- Это богач, который бывает здесь для экономии. Он платит 60 р., и за то не имеет надобности тратиться больше; дома у него ничего нет: ни кусочка сахара, ни дров, ни свеч.
С ним говорит помещик, проживающий в Петербурге, доход с восьми душ, доставшихся ему после родителей.
Я бываю здесь с удовольствием. Толпа людей; их движения, разговоры, самым приятным образом занимают меня. Здесь я довольнее, нежели где-нибудь: я совершенно свободен. Сижу в большом обществе, в прекрасных комнатах и забавляюсь, смотря на пеструю толпу.
Я отстал от большей части моих знакомых, потому что не люблю принуждения и не могу с удовольствием разговаривать с хозяином о погоде, с хозяйкой о товарах. В Петербурге обыкновенно приглашают на вечер; но что там делают? Играют в карты! Я не играю и для меня в тысячу раз лучше сидеть в Клубе, где я независим ни от хозяина, ни от гостей; где могу, как дома, курить табак, читать газеты, зевать и смеяться.
КНИЖНАЯ ЛАВКА
КНИЖНАЯ ЛАВКА
Книжная лавка! Посидим в ней часа два - нигде нельзя лучше провести время; сюда заходят любители чтения, сюда заходят авторы! Войдем, выберем какую-нибудь книжку, почитаем и послушаем! Вхожу. Лавка наполнена народом; хозяин ласковый, учтивый с улыбкой показывает требуемые книги, кланяется и спешит удовлетворить других покупателей. Дошла очередь и до меня.
- Что, сударь, вам угодно?
- Прочесть последний номер "Вестника Европы".
В минуту получаю его и сажусь. Прочие посетители были: гувернер-француз с двумя детьми какого-то Графа; маленький собиратель Русских древностей; толстый, смуглый мужчина; старая напудренная фигурка с голубым платком на шее и в серой шинели.
Эта фигурка, вооружась очками, перебрала все старые Русские романы и выписывала из каждого страницы по две и по три в белую книгу, на которой я заметил надпись: Дратлиа.
Собиратель древностей бегло просматривал какую-то Историю и беспрестанно относился к смуглому, повторяя: - вот еще ошибка! вот еще ошибка! Можно ли писать так Историю? В одном томе до 4-х ошибок! Смуглый разговаривал между тем с каким-то мужиком и что-то записывал в особенной тетрадке.
Гувернер читал, кажется, Journal des de'bats, а мальчики выбирали нужные им книги. Я держал перед собой Вестник и посматривал на посетителей. Дети набрали для себя книг, гувернер со вздохом оставил свое чтение, расплатился и они ушли. Тотчас по выходе их смуглый кончил свои записки, положил тетрадку в карман и подошел к собирателю древностей.
- Я нашел чудо! - сказал смуглый.
- Какое? - спросил собиратель.
- Видишь ли этого мужичка? Знаешь ли кто он?
- Нет.
- Это, мой миленький, музыкант-самоучка. Вообрази: он в совершенстве играет на всех инструментах; знает генерал-бас; но тебе известно как одобряются у нас Русские таланты! Про него никто даже и не знает! Надобно его сделать Известным, и я сегодня же напишу его историю и напечатаю!
- Да где ты его нашел?
- В табачной лавочке, миленький! Иду мимо и слышу звуки гитары, подхожу и вижу этого мужичка, который разыгрывает вариации Цихры. Это поразило меня. Я начинаю с ним говорить, узнаю что он нигде не учился; не более десяти лет в Петербурге; все жил на Волге. Каковы наши Русские! После этого оборотился он к виртуозу.
- Зайди ко мне, миленький! Вот тебе мой адресок. Прости, прости!
Брадатый виртуоз ушел, а смуглый его покровитель опять начал писать что-то в своей тетрадке.
- Пойдем, - сказал собиратель древностей, закрывая книгу, пойдем!
- Сейчас, миленький, дай только записать, что я нашел этого виртуоза в музыкальном магазине. - Как? не в табачной лавочке?
- Нехорошо, миленький; надобно немного приукрасить. Я напишу, что нашел этого Русского виртуоза в магазине Пеца; что он покупал при мне концерты Фильдовы (Джон Филд, ирландский композитор, основоположник ноктюрна) для фортепиан и Родевьи для скрипки. Вот я и кончил! Пойдем.
Они ушли. Осталась одна напудренная фигурка. Этот курьёз все еще продолжал выписку из старых Русских романов; с невероятной скоростью перевертывал листок за листком, и в то же, время нюхал табак, вздыхал, писал. Наконец бросает перо, закрывает книги, берет свою тетрадь, дружески кланяется книгопродавцу и уходит.
ТРАКТИР ЛОНДОН
Недалеко же ушел! скажут Петербургские насмешники. Что делать, господа! простите любопытство путешественника. Мне хотелось увидеть этот трактир, пообедать: я люблю путешествовать, люблю искать приключений, люблю также, и хорошенько поесть и выпить бутылку доброго вина. Это слабость, или как хотите, называйте. Но кто прожил без слабостей?
Например, Локк страстно любил романы, Невтон верил ворожбе, Поуп был обжорой, Мальборуг был скуп, Монтань не выносил слова не знаю, Суворов не выносил его же. Я, Милостивые Государи! Но дозволено ли мне стать наряду с этими славными мужами? Дело в слабостях? Почему же и мне не иметь слабостей, или пристрастия к путешествию, приключениями и вкусным обедам.
Я нанял две комнаты в среднем этаже № 7: я путешественник во всех отношениях! Как это меня радует! От Лареды я хотел было идти далее, дошел уже до нового Английского магазина. Тут я остановился, и очень хорошо сделал. Я прошел было мимо трактира Лондон. Можно ли путешественнику не зайти в то место, куда собирается ежедневно множество людей всякого звания, куда беспрестанно прибывают приезжие со всех концов России и вселенной. Я пошел назад и вхожу в Лондон.
Чтобы совершенно преобразить себя в путешественника, нанимаю номер: на первый стул кладу палку, на другой шляпу; бросаю на стол свои бумаги и карандаш и сажусь под окном. Воображаю, что я только что вышел из кибитки, что я приехал из Малороссии, что ничего еще не видел в Петербурге - словом, забываю, что я все в том же городе, в котором прожил пятьдесят лет. Я забываюсь - иначе и нельзя. Прелестно! Я приехал из Малороссии!
Итак, сижу у окна и смотрю на Адмиралтейство, на бульвар, на экипажи, на пошехонцев. Какой шум! Какая деятельность! Вот тут бы очень хорошо сравнить все, что теперь вижу, с вечной тишиной и единообразием маленьких городков; Адмиралтейство с какою-нибудь ратушей.
Но мое упрямое воображение, или лучше холодное воображение спит, а вспомнить нечего - я не видел ни одного города, ни одного городка. Буду воображать, что я приезжий, и стану записывать свои приключения - все, что вижу, а все, что думаю, обязан писать: я сентиментальный путешественник!
До обеда я ходил в нижние комнаты: они заняты трактиром; там с утра до поздней ночи угощают приходящих. Комнаты очень хорошо отделаны... жаль, что не могу сказать того, что в этих прекрасных комнатах хорошо кормят и можно найти доброе вино. Это не похоже на Русскую пословицу: не красна изба углами, красна пирогами...
Со всем тем я отобедал. Со мною в одной комнате сидели за тремя другими столами: приезжий из Орла Тульской дворянин, проживающий здесь имение по тяжебному делу; с ним обедал какой-то делец; на третьем столике немец. Нам служил один человек.
Приятно обедать в общественном месте именно потому, что не беспокоишь ни себя, ни других - сверх этой выгоды есть и другая: разнообразная картина входящих, уходящих, обедающих, говорящих. Например, этот Орловской помещик, бледный, лысый. Я с большим удовольствием смотрю на него. Он задумчив. Верно, приехал сюда по делам.
По делам? Но кто живет в Петербурге без дела? Посмотрите на Тульского дворянина и его товарища дельца. Дворянин не ест, смотрит на своего милого друга, ловит каждое его движение, предупреждает желания, открывает рот затем только, чтоб попотчевать. Сколько бутылок наставлено на их столе! С каким аппетитом кушает и пьет г. делец! О! он верно много работает! Но вот бутылки уже выпиты, обед кончился, подают шампанское. Делец отказывается. И на что это?
Помилуйте! Тульской знает дельцов - не слушает отговорок - подает бокал, другой, и делец пьет. Вот и дворянин налил себе бокал, встает, жмет рук у своего патрона, кланяется, пьет. Дельцу, подана трубка, он развалился на диване. Дворянин осмелился подсесть к нему и что-то говорит, смиренно потупив взоры. Делец слушает, поворачивает иногда голову, посматривает на входящих, и не отвечает на слова дворянина. И тот замолчал.
Дворянин встает с дивана и возвращается с мороженым. А! это хорошо! говорит делец; дворянин в полном удовольствии. Наконец делец встает, благодарит за угощение. - Нельзя ли зайти в мой номер? говорит ему приезжий. Они уходят.
Вообразите, что немец, который начал обедать прежде меня, не кончил своего обеда? С важностью режет тоненькие кусочки жареной телятины и отдыхает за каждым глотком. Перед ним бутылка чёрного пива. Он ни на кого не смотрит - он весь - желудок! За обедом должно есть - думает мой немец - и ест хорошо, чтоб не заплатить даром денег! И он прав!
Сейчас выгнал я от себя целую толпу спекуляторов. Лишь только я возвратился в свою комнату, является ко мне француз, напудренный, в очках, с большим жабо и с узлом в руке; кланяется, развязывает узел, и между тем исковерканным Русским языком объявляет мне, что пришел чистить мне зубы; что у него чудесный порошок, прелестные щеточки и зубы всякого рода: перламутровые, серебряные, и проч. и проч. В удивлении, в безмолвии рассматриваю его фигуру.
Он подходит ко мне, просит садиться; я, сажусь, он просит меня открыть рот, и опять уверяет, что никто лучше его не умеет чистить зубы. Я встаю и весьма учтиво прошу его оставить меня о вы покое; он начал было опять говорить о своих щеточках и порошках; но я указал ему двери. Он ушел, но вслед за ним является Итальянец с духами, помадой и проч. За Итальянцем портной с готовым платье ем; за портным извозчик с предложением карет и дрожек; через пять минут бедные с аттестатами, подписками и комплиментами.
Я воображаю, как эти народы пользуются и забавляются приезжими, и как дорого заплатил бы какой-нибудь провинциал за такие посещения. Волей, или неволей, француз вычистил бы ему зубы, и взял бы за это, по крайней мере, десять рублей; Итальянец навязал бы ему всю свою подвижную лавочку; извозчик уверил бы его, что такой барин, как он, непременно должен ездить четверней.
Таким образом, провинциал, ничего не видя, узнает, что все рады служить ему, что все готовы предупреждать его желания. Когда же он выйдет на улицу: сколько предметов для удивления, для любопытства! Все эти модные лавки, в окнах которых так прелестно развешены шарфы, платочки, ситцы? Блеск от хрустальных скляночек, баночек, от поддельного серебра, от вызолоченной меди?
Миленькие мастерицы, скромно занимающихся шитьем? Не правда ли, что наш провинциал непременно должен будет остановиться перед магазином? Может быть зайдет, купит, познакомится. Может быть, и забудет свою соседку по деревне, свою невесту, избранную сердцем? забудет! а она, в то время как он вздыхает пред магазином, она сидит в глубокой задумчивости, читает Маркиза Глаголя - или гуляет по гумнам, по полям, по рощицам и думает о далеком друге, о своем милом соседе!
МОДНАЯ ЛАВКА M-ME N.
МОДНАЯ ЛАВКА M-ME N.
Я проснулся очень поздно, почти в одиннадцать часов; оделся и расплатясь с хозяином Лондона, собрал свое имущество, т. е. взял свои бумаги, шляпу, палку, перчатки и вышел на проспект. Иду, иду и думаю: почему не зайти мне в модные лавки? Путешественнику надобно везде быть все видеть. Правда! совершенная правда - надобно все видеть, везде быть. Тут я остановился перед модным магазином Мадам N. Смотрю, в окно, вижу приятное женское личико и я в магазине! Как здесь хорошо! Какая чистота! Какие красивые шкафы! Как искусно развешены в них разные лоскуточки-платья!
Снял шляпу, сделал учтивое приветствие хозяйке и подошел к ящикам, в которых лежали кружева и помочи, часы и чулки, манишки и страусовые перья - все в самом пленительном порядке. Рассматриваю, спрашиваю о цене, и даже дошел до такой дерзости, что заговорил по-французски. - Ах, сударь! вы говорите по-французски! сказала мне хозяйка; - а я думала, что вы приехали с того света!!!
Я не отвечал на этот справедливый и учтивый комплимент и спросил пару перчаток. Только она подала их, загремела карета, двери растворяются с треском, и вбегает в лавку молодая, хорошенькая женщина в сопровождении человека лет сорока (этот человек, как я узнал из разговоров, был ее муж) Мадам оставляет меня с перчатками, идет к даме и загремел разговор (разумеется на французском языке).
Дама потребовала всего, что есть нового, лучшего, пересмотрела все: все шкафы, ящики, все картонки; примерила четыре, или пять шляпок, шесть, или семь чепчиков, беспрестанно подбегала к мужу и к зеркалу, хохотала и не переставала говорить. Француженка со своей стороны не переставала ей отвечать, хвалила свои моды, и они две подняли такой крик, что я готов был бросить и старые и новые перчатки и бежать вон; но, подстрекаемый любопытством остался.
Муж между тем сидел очень покойно на стуле; вынул часы, рассматривал их, прислушивался к бою; поглядывал рассеянно во все стороны и зевал. Вдруг (вообразите мое положение) дама подбегает ко мне, и подвязывая чепчик, спрашивает: идет ли он к ней? к лицу ли? как я думаю? и не дождавшись ответа, захохотала, бросилась к мужу, поцеловала его в обе щеки - и опять начинает разговор с француженкой.
Я остолбенел, однако заметил, что эта веселая дама расспрашивает обо мне. Француженка качает головой, взглянула на меня, потупила глаза и шепчет: с'est un provincial. Вслед за этим словом дама подбегает ко мне уже в шляпке испрашивает: вы приезжий? откуда? давно ли в Петербурге?
- Я путешественник, сударыня. - Вы путешествуете? - По Невскому проспекту! Она захохотала, отвернулась от меня наговорила кучу комплиментов француженке и побежала к карете. Муж спокойно встал и побрел, двери хлопнули - и вот мы одни с француженкой; но она не беспокоится обо мне: перед ней лежит куча чепцов, платья, платков, вуалей, которые набросала дама. она убирает все это и кажется забыла провинциала.
- Кто эта дама? спрашиваю у нее. - Не знаю, - отвечает француженка, я забыла ее фамилию. - Возьмите же деньги за перчатки. - Положите на ящик.
И вот мы за работой: она убирает платья и шляпки, а я, в другом углу записываю свое приключение.
КУХМИСТЕРСКОЙ СТОЛ (забегаловка)
Благодарение Богу! мое путешествие благополучно продолжается! Все обыкновенное! Странно только то, что я постоянно встречаюсь или с авторами, или с редакторами, или с переводчиками! Мое путешествие можно назвать сентиментальною прогулкой по кабинетам сочинителей, или чудными встречами на Невском проспекте. Чудные, в самом деле, чудные встречи! Куда не иду, везде авторы. Неужели их так много в Петербурге?
Мне кажется однако, что многие присвоили себе это название авторов - очень несправедливо? Впрочем, оно не приносит у нас больших выгод; и из всех несправедливых приобретений - самое невинное, самое извинительное. Много ли писателей, которых уважают именно за то, что они писатели? Пять, шесть человек, а прочие или покорнейшие рабы книгопродавцев, или…
В кондитерской лавке я видел Поэтов; в книжной лавке - Прозаиков; теперь видел Критиков, наших Аристархов. Звуки громких их голосов и теперь еще отзываются в моем слухе, и теперь еще вижу их грозные взгляды...
Выйдя из книжной лавки, я задумался. Иду в тихом унынии, с беспечностью (словом иду, как показано ходить чувствительному путешественнику) вдруг ужасный крик поражает слух мой. Останавливаюсь и узнаю, что он происходит из подвала, над которым сияет надпись: Кухмистерской стол (совр.: забегаловка). Еще раз повторяю, что я люблю искать приключений; еще раз повторяю, что чувствительному путешественнику везде надобно быть; все видеть.
Я иду в подвал.
Если бы я писал не по-русски и не для Русских - непременно бы сделал описание Русских харчевен, самое подробное; рассказал бы, что в этих кухмистерских столах запах самый неприятный, тяжелый; что столы накрыты самыми сальными скатерками; что там нельзя достать ни одной бутылки хорошего вина, но мои соотечественники пусть сами туда заглянут, если не хотят мн. верить.
Спускаюсь в подвал и вхожу в маленькую, запачканную, закоптелую комнатку. С низкими поклонами встречает меня человек; в красной Русской рубашке, и спрашивает с улыбкой: - что прикажете, Ваше Благородие? Поросенка, или ветчины? Щей, или ботвиньи?
Вот я, наконец, в комнате, занятой громогласным обществом. Человек десять молодых людей сидят кругом стола за стаканами пунша. Они стучат руками и ногами, качаются на стульях, звенят стаканами, и все до одного кричат. Смиренно сажусь в уголке, и, не желая подать подозрения, что я пришел их слушать, спрашиваю у вежливого прислужника ботвиньи.
После бури обыкновенно бывает тишина и мои громогласные соседи мало-помалу утихли. Разговор сделался порядочнее, и я заметил, что большая часть крикунов обратилась к одному молодому малорослому человеку, который с важностью курил трубку и прихлебывал пунш. Вдруг этот молодой, малорослый человек встает со своего места.
Все утихло. Он опять садится и начинает говорить: - Все это не то, господа! Не так должно поступать в таких случаях! Выслушайте меня! Теперь у нас пишут, не так как мы пишем - но всякий из нас знает, что кроме нас никто не умеет писать по-русски. Что значат перед нами все эти модные, любимые авторы? Мы хотим оценить их, показать Публике, что она ошибается. Хорошо, но нападать явно на людей, которых она защищает не выгодно!
Надобны насмешки, цитации из Буало, ссылки на Старинные книги; надобно каждому из нас преобразиться в какого-нибудь забавного старичка, жителя Васильевского острова, Бутырской слободы. Бродяги, как не прочесть моей статьи, где я докажу, что не Поэт, и подпишусь именем какой-нибудь рыбы, или обитатель чердака у моста?
Если кто-нибудь станет доказывать, что я не прав - тем лучше для меня! Я сделаюсь известным! Это самый легкий и верный способ заставить говорить о Себе! Пример в наших журналах! Наши театральные судьи, защитники и обвинители актеров, и прочие и прочие - кто узнал бы об этих богатырях, если бы они не прибегли к Журналам и двумя, тремя остренькими словцами не обратили на себя внимания.
Так должно поступать и нам господа! Ты будешь писать комедии на Журналистов! - сказал Оратор, оборотясь к молодому, сутуловатому человеку в очках, который был еще меньше его ростом. - Ты будешь писать пасквили экзаметром и насмехаться над экзаметрами! - продолжал он оборотясь к другому молодому человеку в модном сюртуке. - Ты будешь кричать везде, что я пишу лучше всех прозой, - сказал оборотясь к третьему, - крепкая грудь твоя заменит талант. - Ты будешь хвалить меня в журналах...
Словом мой малорослый крикун роздал всем роли, и потом пригласил всех к себе на чашку чаю. Они ушли. Я вышел из подвала с намерением тотчас же записать этот разговор, но не сказывать где именно я его слышал. Меня назовут собеседником пуншевых бесед, бродягой, трактирным старичком, посетителем харчевен. Но что мне за дело? Я чувствительный путешественник! Я должен везде побывать!
КОНДИТЕРСКАЯ ЛАВКА АМБИЕНЯ
КОНДИТЕРСКАЯ ЛАВКА АМБИЕНЯ
Как я доволен своим путешествием! Какое счастье жить в Петербурге и не знать других городов и городков! Благодарю Провидение! Благодарю судьбу свою! А я роптал, я собирался ехать Бог знает куда! Правда, совершенная правда: везде хорошо, где нас нет! Прежде я не верил этой пословице. Что заставило благодарить судьбу, которая не выпускает меня из Петербурга? Что? Узнаете...
Я зашел в кондитерскую лавку Амбиеня прохладиться и отдохнуть после жестокого испытания в подвале. Мне подают рюмку мороженого. Благодетельное изобретение! Я забыл шумную пуншевую беседу и достоинство свое: достоинство чувствительного путешественника, как вдруг раздались громкие восклицания в комнате, в которой я сидел.
- Давно ли здесь? Где был? Как я рад, что тебя вижу! Какими судьбами! Вот те восклицания, которые мне помешали вполне насладиться моей рюмкой мороженого. Я поставил рюмку на столик, взял газеты и под защитой их стал играть свою роль наблюдателя и чувствительного путешественника.
Двое молодых людей стояли у окна, держась за руки, осыпая друг друга вопросами. Один, как я догадался, как может и всякий догадаться, был приезжий - другой Петербургский - и этот-то Петербургский кричал: - давно ли? здравствуй! и прочие восклицания, помешавшие мне доесть спокойно мое мороженое. Они держались за руки, обнимались и с участием смотрели друг на друга. Но вот их разговор. Я его расскажу, как слышал и как запомнил.
Двое молодых людей стояли у окна, держась за руки, осыпая друг друга вопросами. Один, как я догадался, как может и всякий догадаться, был приезжий - другой Петербургский - и этот-то Петербургский кричал: - давно ли? здравствуй! и прочие восклицания, помешавшие мне доесть спокойно мое мороженое. Они держались за руки, обнимались и с участием смотрели друг на друга. Но вот их разговор. Я его расскажу, как слышал и как запомнил.
Вообразите, что вы читаете теперь какую-нибудь Комедию. Вообразите - это не сложно. Читайте же. Нет! прежде надобно дать имена действующим. Хорошо! Один Петербургский, другой приезжий. Они сели у окна.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: - Итак ты опять здесь?
ПРИЕЗЖИЙ: - И никогда не оставлю Петербурга.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: - Никогда? Не ты ли кричал, что Петербург скучный, несносный город? Помнишь ли? Что же переменило твои мысли?
ПРИЕЗЖИЙ: - Моя поездка. Благодарение Судьбе! Я узнал, что такое провинция! Какие люди, какие общества в этих губерниях - узнал, и без ужаса не могу вспомнить времени, проведённого мною вне Петербурга.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: - Но расскажи мне, что с тобою случилось? Верно чудесные, неожиданные приключения?
ПРИЕЗЖИЙ: - Изволь. Ты знаешь, что я скучал в Петербурге. Что не наскучит человеку в 22 года? Прогулки, театры, общество - все надоело мне! Я искал перемены, искал нового и с радостью согласился ехать в N., когда мне предложили там место.
Я воображал, что еду в земной рай. Заранее представлял мою провинциальную жизнь, мои занятия, мой кабинет, дружеское общество - все в самом приятном, восхитительном виде. Наконец, после мучительной дороги, которую я мужественно перенес, приехал я в N. Первый шаг в город охладил мое восхищение.
Представь, что я не знал, куда преклонить голову! Там нет домов для приезжих, и я, простояв часа два на улице, должен был остановиться на квартире, которую отыскал в самом грязном переулке города.
Вхожу, представь себе комнату - запачканную, заваленную мешками с овсом, крупами, платьем - в углу Русскую печь, которая распространяла кругом несносный запах рыбы с постным маслом, два окошечка, в которые едва входил свет и пол, на котором лежала слоями грязь - вот внутренность моей квартиры, и вот где должен был я помещаться с хозяйкой дома, с ее внучками, курами, кошками, поросятами!
Признаюсь, этот первый шаг в N. так поразил меня, что мне стало так грустно, что я готов был воротиться пешком в Петербург. Нечего было делать. Я попросил очистить себе уголок, кое-как разобрал свои вещи, и сел на чемодан, за неимением стул. Вообрази мое положение!
Я ехал с такими приятными надеждами, с таким радостным ожиданием, но велением Судьбы очутился в хлеву. Говорят, что с деньгами везде хорошо; но тут и с деньгами я не знал что делать. Между тем вечер приближался, лучина задымилась, хозяйка и внучки сели ужинать, куры уселись, поросята замолкли.
Хозяйка косилась на постояльца; постоялец рад был отдать ей половину своих денег, чтобы только избавиться от ее квартиры. Кое-как достал я свечу, и, не раздеваясь, бросился на чемодан. Рано, очень рано утром встаю больной, измученный, и иду посмотреть N. Строений немного, большая часть мазанок. Целью моей прогулки была квартира.
Я вспрыгнул от радости, когда один добрый старик сказал мне, что есть, квартира в доме, одной Полковницы. Бегу, и нахожу в самом деле три комнаты, довольно хорошо меблированные. В ту же минуту нанимаю, перевожу свои вещи и забываю свое вчерашнее горе. Отдыхаю, и примиряюсь с N.
В короткое время я познакомился со всем городом, то есть на другой же день после моего переселения на новую квартиру. Там есть церковь, в которую весь город собирается по воскресеньям. Меня, как приезжего, тотчас приметили там и дело кончилось тем, что я со всеми познакомился.
Начинаю ходить к тому, к другому и мне это вменили в грех, в непростительный грех. Например, там отличается бойкий, отставной Поручик. Он распоряжается всем; он заказывает обеды; он назначает балы и праздники - все повинуется его воле! Так как в N. не все еще потеряли здравый рассудок, то нашлись люди, которые не захотели иметь чести раболепствовать перед Господином Поручиком.
Он не терпит неповиновения, и сделался непримиримым врагом и, гонителем не признающих его могущества. К несчастью, или счастью, некоторые из этих вольнодумцев мне понравились, и я стал навещать их. Гляжу, Поручик со мной и не кланяется; Поручик и не глядит на меня! И во всех домах и домиках заговорили обо мне, что я и дурак, что я грубиян, не умею жить в свете, не умею говорить.
Эти разговоры восхитили меня! Я стал забавляться говорунами и г. Поручиком. Каждый день утром скакал по городу верхом, а после обеда, или вечером с людьми оппозиционной партии хохотал над рассказчиками. Часто, по привычке, прогуливаясь вечером, пел Тирольские вальсы; или сидя под окном, смотрел в телескоп на проходящих и проезжающих.
Все это вменили мне в ужасные преступления, и я слышу, что старухи крестятся при одном имени моем, а отцветающие красоты, роты г. Поручика, прославляют меня негодяем и пьяницей; что я во все горло пою песни, прогуливаясь по улицам и мимо Енаралских домов; что я... довольно!
Меня пожаловали вдруг из дураков в негодяи первой степени этого мало. Однажды меня пригласили на охоту. Я дал слово, и велел приготовить верховую лошадь. Надобно знать, что моя квартира, или дом, в котором я жил, выходил на две улицы, и заднее крыльцо его соединялось с передним посредством коридора.
В ожидании товарищей, пригласивших меня на охоту, сажусь у окна. Вдруг они подъезжают и торопят меня. - Сейчас, господа! - сказал я, - сейчас!
Выбегаю на двор, сажусь на лошадь и через коридор выезжаю на улицу. На другой день... ужас! Во всех домах, во всех домиках, на площадях, в кабинетах, в передних в конюшнях, ни о чем другом не говорили как обо мне и о моей лошади!
Выбегаю на двор, сажусь на лошадь и через коридор выезжаю на улицу. На другой день... ужас! Во всех домах, во всех домиках, на площадях, в кабинетах, в передних в конюшнях, ни о чем другом не говорили как обо мне и о моей лошади!
Нашлись свидетели происшествия и уверяли, что я превратил мою комнату в конюшню, что я в комнатах езжу верхом, в зале обгоняю лошадей на корде - в гостиной кормлю лошадей овсом, а в спальне пою их. И заговорили и заболтали! После: здоровы ли вы? - сейчас начинали рассказывать обо мне и моих лошадях.
Когда же я проезжал по улицам, старухи закрывали свои лица - вероятно, чтоб не испугать моей лошади, а молодые бросались к окошкам и дивились, как могу я ездить верхом в комнатах, вышиной двух аршин с четвертью? Слухи обо мне достигли города V. за пятьдесят верст от N. оттуда, исправленные и умноженные, пронеслись в деревню г-жи Полковницы, хозяйки дома, в котором я жил. Она ахнула, перепугалась моя голубушка и прислала эстафету к Городничему.
Пишет, чтобы ради Христа освободил он ее от постояльца, что она не спит от страха другую неделю, что ей все кажется, будто я переверну дом ее вверх дном. Городничий объявил мне, чтоб я нашел себе другую квартиру и объяснил причины. Странные люди!
Если я провел лошадь по коридору, в котором надобно прыгать, чтоб не переломить себе ноги, или не провалиться, то верно не коридор мог испортиться, а моя бедная лошадь ... и будто в первый раз проходили по нем лошади! О сколько лошадей, сколько даже ослов прогуливалось там прежде, гораздо прежде моей лошади! Но это дело постороннее.
Я переехал на новую квартиру и от скуки принялся за рисование. Расписал занавески у своих окон по-своему, т. е. представил карикатурные группы мужчин и женщин. Что же вышло? Опять работа проворным языкам! Опять заговорили обо мне! Нашли сходство в моих карикатурах с такими-то, с такою-то, и пошла потеха! В моем переулке сделался базар!
Беспрестанно начали мимо ездить, чтоб посмотреть карикатуры; толпами сбирались перед окнами и толковали! ужас! Между тем Поручик, или что-то похожее на военное, продолжал свою работу и прославлял меня. Все это было забавно для меня сначала; но после наскучило и бесило. Все, что скажу, что сделаю - все известно - где был, что ел, что пил - все узнано и все рассказано с тысячами прибавлений.
Наконец я начал явно насмехаться над г. Поручиком, над всеми его рыцарями и дамами. Я отстал от обществ и начал жить пустынником! И очень был рад. Надобно тебе знать общество в этом N. Всех домов не более двадцати (т. е. дворянских домов). Отгадай же сколько партий? Пятнадцать! Все косятся друг на друга, выдумывают клеветы, рассказывают небылицы. Сойдутся ли женщины - молчание. Сидят попарно, или по три; и шепчутся.
Взглядывают на соседок, осматривают их с головы до ног и злобно улыбаются друг на друга. На другой день и пошли рассказы! Такая-то была в таком платье! умора! Что за талия! Что за дурацкая кисея! А та то, в белой Турецкой шали! Знаешь ли, кто ей подарил? Ну, Купец, которому было дело до ее мужа! И вот подобные-то разговоры всегда занимают женские языки N. А мужчины?
О, эти важные люди слишком заняты! утром дела и происки друг над другом, или занимают деньги у людей, которые имеют до них нужду; а, вечером играют с теми же заимодавцами в карты, и пьют, пьют немилосердно!
Без ошибки можно сказать, что в девять часов вечера весь N. пьян! И вот в какой городок привела меня судьба! Боже мой! Как искренно молил я Бога о возвращении меня в Петербург! Наконец желание мое исполнилось! Я здесь, и даю клятву никогда не оставлять Петербурга! Здесь я живу; живу как хочу; никто обо мне не думает, никто не заботится какой у меня жилет и какие сапоги! А там? Но все прошло! Выпьем за здоровье Петербурга и пожелаем более рассудка жителям N.
Молодой человек встал и ударил по руке своего товарища. Вот вся история, или некоторые случаи моей провинциальной жизни. Не правда ли, что эти уроки научили меня ценить Петербург и столичную жизнь.
- И для меня это урок! подумал я. Благодарю Провидение, что живу в Петербурге и путешествую только по Невскому проспекту!
***
Есть люди, который прослыли умными, учеными, добрыми, любезными, прослыли... и слывут за любезных, добрых, ученых, умных до самой смерти. Тогда только открывается, что свет бессовестно лгал на них и умные, любезные тотчас провозглашены глупыми, злыми невеждами. Вот отличие молвы от истинной славы.
Опасно доискиваться причин временной славы некоторых людей. Их судьи потомство и История. Заглянем в общество людей, которые родятся, живут и умирают в неизвестности. Сколько знаменитых полководцев, искусных политиков, умных, ученых, необыкновенных людей найдем в каждом уголку каждого квартала, каждого города и городка?
Читатели! вы бываете в обществах; кто из вас не видал в посещаемых домах Гения? Молодого человека с редкими, необыкновенными способностями? Удивительного ребёнка? Любезного, единственного человека? К счастью вселенной и к славе отечества, везде Гении, удивительные люди, необыкновенные дети.
Будем умеренней в восторге патриотическом и признаемся, что если в России 40 миллионов жителей - тридцать девять миллионов, девятьсот девяносто девять тысяч из них - все чудесные, необыкновенные люди, но только каждый в своем углу. Пожалеем о малой известности такого необыкновенного множества Гениев и взглянем на некоторых из них.
Случай заставил меня идти к одному собирателю Гениев. В продолжение двух часов видел я у него одних только удивительных смертных или бессмертных, как он изволит об них отзываться.
Первое чудо! Я видел Поэта, который пишет гладкие, приятные, гармонические стихи и не знает Грамматики (Гений). В стихах его, исполненных жизни, сильных, звучных, одни картины: за мыслями он не гоняется (Пламенное воображение!).
Он в связи со всеми литераторами и ни один не хвалит его (Зависть). Он говорит обо всем, но всегда чужими словами (Необыкновенная память).
Второе чудо! Я видел переводчика Татарской истории, который ни слова не знает по-татарски (Гений, которого никакие трудности не останавливают!).
Третье чудо! Я видел прелюбезного преценного человека. (По крайней мере, так провозгласил его Собиратель Гениев). В нем все необыкновенное! Ничего человеческого! Одним словом он Гений душей и телом! Голос его попеременно изменяется из нижнего тенора-баса в дискант и из дисканта в нижний тенор-бас. (Обыкновенно приятно для слуха!).
Он ростом двух аршин с вершком (около полутораметра), а шагает как Голиаф - Голиаф в кавалергардских ботфортах. Он одет по последней моде - нельзя иначе. Сам Эмерс (кажется тоже Гений) шьет ему платье. Но всего удивительнее, всего привлекательнее разговор его!
Я не Гений, я из людей самых обыкновенных, но слушал его с восхищением, с величайшим вниманием, и ничего не понимал. (Обыкновенная участь слушателей Гениев). Показалось мне, что, ему все не нравится (Не мудрено: может, ли нравиться обыкновенное человеку необыкновенному). Все глупо, все дурно, все не так! Я поверил ему - потому что он так страшно выворачивал свои глаза и кривил рот.
Во всей вселенной нравился ему только один ... Александрийский лист (здесь: слабительное средство)! И в самом деле Александрийский лист достоин всемирной славы, потому что Гений советует его пить всем нам Простым людям, потому что он, Гений, сам недавно вылечился посредством Александрийского листа от жестокой боли в желудке после неумеренного употребления деревенского варенья, которое прислано было ему от родителя к празднику Рождества Христова, и наконец - потому что он, Гений, пил Александрийский лист когда один нахал, вальсируя с ним, сбросил его с лестницы и переломал ему ребра.
И много, много говорил Гений об Александрийском листе, о болезни, называемой землетрясение, о поединках своих с постельными собачками, о... кто упомнит все, что Гений может рассказать в один час?
Меня огорчает несправедливость людей. Поверите ли? Некоторые называют этого Гения... и глупым и дерзким невеждой, что он не должен быть терпим в хорошем обществе? что Поэт, который не знает Грамматики и пишет одни мечты Сладострастные мечты - не Поэт, а истребитель бумаги и усыпитель? что переводчик Татарской истории, не зная Татарского языка, будто бы не дол жен и не может переводить с Татарского? Кого не преследовала зависть?
Но все эти неуместные восклицания, толки злых людей не помрачат наших Гениев! Гений душой и телом знаменит в своем углу - Поэт славен в альбоме своей красавицы - Переводчик Татарской истории гремит в газетных объявлениях.
ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ
Сбылись желания мои! я путешествовал! Теперь… - теперь не путешествую! (Кто ожидал, что после тире и, точек можно сказать такую истину)?
У Аничкова моста я встретил одного знакомого. Человек бесподобный! У него 80000 рублей годового дохода! Самым учтивым образом спрашиваю о его драгоценном здоровье, обстоятельствах, супруге.
- Слава Богу! слава Богу! - отвечал он, приходите ко мне на вечер сегодня; нет, приходите обедать через час. Вы свободны?
- Я кончил мое путешествие и теперь могу своротить с Невского проспекта.
- Ваше путешествие?
- По Невскому проспекту; я описал его... Это должно быть забавно!
- Нельзя ли прочесть у меня? Вы знаете, что у нас собираются многие литераторы. Жена моя страстно любит Русскую Поэзию, это бесподобно! Приходите же через час. Простите, до свидания.
Мы разошлись. Хорошо, пойду обедать, думал я, потому что надобно обедать, если не всякий день (это дурная, привычка людей беззаботных), то хоть через день, как некоторые из молодых людей, занятых службой; но читать мое путешествие... это наказание (ссылаюсь на читателей). Если я прочту мои записки, меня назовут автором: старшее и милое имя!
Пусть буду автором. Мне дешево достается это звание! стоит только отобедать в кругу литераторов... чего же лучше? Итак, я прочту свое путешествие, прослыву автором; Плавильщиков поместит меня в Каталог Русских писателей, и я бессмертен!
В ожидании обеда и бессмертия, возвращаюсь на Невский проспект; захожу в лавки, торгую, рассуждая о политике, о доходе и беспрестанно посматриваю на часы, чтобы не опоздать к обеду. Наконец уже три часа. Бегу, лечу. (Благомыслящий читатель заметит, что бегу и лечу говорится только на бумаге, а я, между нами сказать, шел просто).
Как весело жить людям богатым, думал я, входя в гостиную комнату; чего им недостает? Сколько в комнате бронзы! мебели! у них все есть, и швейцар и экипажи, и всякий день сытный обед, всякий день лучшее вино, и всякий день множество гостей, которые от души все хвалят, начиная с хозяина, комнат его, до швейцара и экипажей.
Обо мне доложили, что не мешало, однако сидеть мне одному целые полчаса в великолепной гостиной - и с великолепною скукой. Наконец я услышал несколько голосов в ближней комнате; двери растворились - и вот мой хозяин бежит ко мне с распростёртыми объятиями.
Хозяйка в легоньком белом капоте, в кружевном чепчике, бледная, как восставшая из гроба, медленно переступает, опираясь на плечо толстого, румяного Доктора; две моськи и Demoiselle de-compagnie следуют за Доктором, несколько молодых людей в очках и без очков, заключают шествие, разговаривая о дебютах какой-то новой актрисы.
Хозяин жмет мою руку; хозяйка удостоила меня легкой улыбкой. Сели, и все обратились к ней, с учтивостями, ласкательствами, мадригалами. Она улыбалась одному - на другом останавливала большие голубые глаза свои, третьему сказала что-то лестное, словом - словом, все удостоились ее вниманий. Дошла очередь и до меня.
- Мой муж сказал мне, что вы написали интересное путешествие. Вы его прочтете нам? Вы так приятно пишете!
Молодые люди обратили глаза на меня, и оставаясь в прежнем положении, с безмолвием рассматривали мою фигуру, рассматривали с таким удивлением, как будто во мне не было ничего человеческого.
- Да, да, - подхватил муж, - он прочтет нам это Путешествие!
Признаюсь, я оробел: читать первые опыты, и при незнакомых, также страшно, как слушать баллады смелых подражателей Жуковского, или видеть на сцене наших отчаянных трагических актеров.
- Я написал путешествие, - сказал я, - для собственного удовольствия, а потому прошу вас о снисхождении, если чтение наскучит вам. К тому же, я любитель Словесности, а не литератор, не называл себя литератором даже на визитных карточках.
Разговор упал. Хозяйка зевнула и в молчании гладила своих мосек; хозяин отвел в угол одного из молодых людей; другие, насмотревшись на меня, начали спорить (только не обо мне); мне осталось удовольствие смотреть в окно.
Признаюсь, я был так связан, так неловок, смотрел на проходящих по улице с такою завистью из этой золотой гостиной, как птичка в золотой клетке смотрит на свободных ласточек, беспечно и весело вьющихся в воздухе. Так просидел я до той счастливой минуты, в которую раздалось в ушах моих: кушать готово.
И за обедом я рассмотрел молодых людей: на мою беду почти все они были литераторы от Адмиралтейской башни до Аничкова моста - я только и видел один этот народ. Видно так судьбе угодно! Да будет воля ее, и да продлится терпение моих читателей!
Повторять ли все, что я слышал? Одно и тоже. Каждый умел со всей скромностью похвалить себя и свои сочинения, сказать что-нибудь лестное каждому из присутствующих, и побранить отсутствующих. Разговор за столом и дерзкие, площадные суждения юных мудрецов, утомили меня, а хозяин был в восхищении.
- Люблю остроты молодых людей, - сказал он, выходя из-за стола. - Говорят, как книга! Особенно ваш сосед умен и учён, как все книги вместе! Опять вошли в гостиную; опять разговоры и споры. Я слушал, не смея вмешаться в разговор с такими Грозными судиями. К тому же я имел еще нужду в снисхождении. Сердце мое билось; я боязливо брал себя за боковой карман, в котором лежало мое Путешествие, и с ужасом поглядывал на моих судей.
Они не заботились обо мне. Спорил и кричали по-прежнему, и ни словом не ободрили пятидесятилетнего автора.
- Пойдемте же в кабинет, господа, - сказав хозяин - пора! милости прошу. И мы пришли в кабинет. Посреди комнаты стоял маленькой столик с пятью свечами. Хозяйка сидела уже на диване. Все уселись. Хозяин показал мне стул перед столиком. Молчание.
Вынимаю тетрадку, и читаю:
"Чувствительное Путешествие по Невскому проспекту. Моя комната 1818, мая".
- Mais vraiment cela doit etre tres interessant, - сказала хозяйка, закутываясь в свою шаль. Муж значительно взглянул на нее. Молодые люди переглянулись. Я поклонился, продолжаю чтение... ...читаю, читаю и наконец, благополучно прочел все до лавки Амбиеля.
Я почти не помнил себя, не смел взглянуть на слушателей во время чтения, краснел как ученик, и не раз проклинал судьбу свою. Но чтение кончилось. Я положил тетрадку. Осмелился взглянуть на слушателей. Все молчат. Встаю. Никто ни слова. Подхожу к хозяину.
- Прекрасно! прекрасно! - закричал он, вскочив со стула и обнимая меня. - Бесподобно! Мастерски! Слушатели зевнули. Двое молодых людей встали, и оборотясь, спрашивали друг друга что-то о театре; другие подошли ко мне с учтивостями...
Признаюсь я и не ожидал такого благотворного действия от моего путешествия. Наконец и хозяйка вымолвила слово и, разумеется, похвалила; я совсем смешался, потерялся и в рассеянии стал снимать со свечей. Двое молодых людей уехали. Другие сели играть в карты, осталась одна хозяйка. Надобно было говорить, и я начал.
- Кажется, мое чтение было очень благотворно, - сказал я. - Да, муж и молодые люди заснули. - Но вы? - О нет! Я слушала с большим вниманием, а не сказала вам ни слова, когда вы кончили, для того что мн. хотелось доставить удовольствие вам и себе, чтобы вы могли полюбоваться картиной ученых слушателей; мне хотелось видеть, какое действие произведёт на вас эта сцена. Я поблагодарил милую хозяйку за такое лестное внимание.
- Одно не нравится мне, - сказала она - позволите ли сказать откровенно мое мнение? Ваше замечание конечно справедливо, и я приму его с благодарностью.
- Вы слишком часто водите своих читателей по трактирам, кондитерским лавкам и наконец, мне совсем не нравится ваш Кухмистерский стол. И везде авторы! и везде поэты! Правда, вы сами сказали, что путешествие ваше род прогулки по кабинетам ученых и полу-ученых; но Кухмистерский стол оскорбляет вкус, а эти авторы и поэты утомляют читателя!
Вы меня извините за замечание? Оно сделано женщиной, и не может быть оскорбительно для вас. Я поцеловал ручку моего Судьи.
- Позволите ли сказать несколько слов в оправдание?
- Говорите.
Я был в трактирах, чтоб узнать, какого рода люди их навещают - видел и описал.
Но это низкая природа.
- Но эта низкая природа встречается и в обществах, и часто под маской людей порядочных. Надобно было показать их в настоящем виде, посадить их в настоящее место, в собственном их кругу - и я поселил их в трактир, в Кухмистерском столе.
- Позволите ли сказать несколько слов в оправдание?
- Говорите.
Я был в трактирах, чтоб узнать, какого рода люди их навещают - видел и описал.
Но это низкая природа.
- Но эта низкая природа встречается и в обществах, и часто под маской людей порядочных. Надобно было показать их в настоящем виде, посадить их в настоящее место, в собственном их кругу - и я поселил их в трактир, в Кухмистерском столе.
Я видел тех бойких критиков, которым досадно, что есть люди знающие более их, т.е. более азбуки, и Краткой Российской Грамматики. Этот род людей размножился невероятно. Целые шайки их прокрались в литературные общества.
Все журналы наполнены их переводами о древностях, о старине, рассуждениями о языке, о стихах, ругательствами на почтенных литераторов. И щадить их? И где же показать их? В литературном обществе? Позор обществу! И я посадил их за скатерти Русских харчевен.
Тут вошел муж. Еще раз пожал руку, еще повторил: прекрасно! бесподобно, - подвел меня к карточным столам и скрылся. Я взял тихонько свою шляпу, и побрел домой.
ЭПИЛОГ
Тут вошел муж. Еще раз пожал руку, еще повторил: прекрасно! бесподобно, - подвел меня к карточным столам и скрылся. Я взял тихонько свою шляпу, и побрел домой.
ЭПИЛОГ
Как мореход после путешествия вокруг света, рассматривает карту пройдённых морей - как, и цроч. и проч....так я, возвратясь в свое уединение (состоящее 1 Адмиралтейской части 1-го квартала, в доме под № 110, на 4 этаже) так я (сидя на пуховом диване) летаю мысленным взором в прошедшем, вспоминаю свои приключения на Невском проспекте, и говорю в свое утешение: - Я путешествовал!
ПОПРАВКА
Как плоско! Никуда не годно!
Вот истинно галиматья!
Какой чудак так пишет? Я.
Ах! извините! Превосходно!
И.
Журнал Благонамеренный, 1820-1821