Уже и тогда славилась гостиница Демута, приобретшая в настоящее время историческую известность. Мне шел 24 год. Париж и Лондон были мне коротко знакомы; с понятием о больших городах я вполне освоился; но кроме некоторых родственников, принадлежавших к чиновничьему мирку, я был человек чужой в Петербурге, где судьба определила мне узнать все и всех и застрять на долгое время.
В своей родной Риге я числился адвокатом. Дядя мой, генерал-лейтенант Бартоломей (Алексей Иванович), принадлежавший к дворянскому роду лифляндского острова Эзеля, женился в Петербурге на графине Девьер (Александре Николаевне, урожд. Сабурова) и затем исчез для нас в высшем воинском кругу.
Он был человек сердечный и во времена молодости искреннейший друг моего отца. Отец Бартоломея находился в таких дружеских отношениях с моим дедом по отцу, что они поменялись между собой старшими сыновьями, так что мой отец воспитывался в Аренсбурге, а Бартоломей у нас в Риге. Редкий случай, характеризующий семейные отношения старого времени.
Мне велено было явиться к дядиной теще. Старая графиня (Марья Михайловна Девьер) жила у Конюшенного моста на Мойке, в тесной, но уютной обстановке. Я очутился перед маленькой, дородной женщиной, с головой, глубоко ушедшей в плечи, с серыми проницательными глазами и рябоватым лицом. Графиня была урожденная Сабурова, а Сабуровы принадлежат к древнейшим боярским родам. Она во всех отношениях была представительницей прошлого столетия, объяснялась только по-русски и придерживалась старого патриархального обычая говорить всем, старому и молодому, знатному и незнатному, ты.
Некогда она была богата и жила открыто. Теперь посвятила она всю себя моему двоюродному брату Ивану (Алексеевич) Бартоломею, который только что был выпущен из юнкерского училища гвардейским офицером и жил у нее в доме. - Мой Жан ученый, сказала она, - и ведет разговоры все об ученых предметах. Согласен ты жить у нас, в одной с ним комнате? Я принял предложение с радостью.
Жан, хотя и прошел только курс юнкерского училища, был действительно в своем роде ученый. Он был не из тех, которые полагают, что на все достаточно одного только здравого человеческого смысла, этого знаменитого здравого смысла, на который все ссылаются, но который встречается так редко. Он был нумизмат по природе. Сам собой выучился он Персидскому языку. Сассаниды были его специальностью. По целым дням сидел он за своими монетами. Известный нумизмат, академик Дорн, посещал его и советовался с ним при покупке монет. Когда Жан брал в руки монету, взор его насквозь проницал ее, и часто говаривал он, к удивлению великого немецкого ученого: эта монета настоящая, а эта известная Парижская подделка, и представлял доказательства своему мнению.
Также и по латыни он выучился сам собой, практически, по Римским монетам, а не по Брёдеру и Шаллеру. Все в нем было дельно и основательно. Если я предлагал помочь ему в разборе какой-нибудь надписи на монете, он отвечал: Не надо, не надо! Дня в два я сам добьюсь, лишь то остается в памяти, до чего сам дойдешь! Латинским языком занимался он только для разнообразия, следуя пословице: Varietas delectat (Разнообразие приятно). Он любил Римские изречения. Восточными языками он обладал как родным. Он говорил каким-то особенно-изящным русским языком, не таким как другие, и превосходно по-французски. Относительно произношения, он был педант и в спорах об этом предмете всегда оставался прав.
Писать на иностранных языках он терпеть не мог, а также не любил немецкого языка, который знал очень мало - явление, очень часто встречающееся в детях, происходящих от смешанных браков. Он был ультра-аристократ и обладал сведениями по части геральдики. Герб его отца был прекрасен: Пегас с надписью: per aspera ad astra (Трудным путем к небесам). Свои нумизматические исследования он представил Академии на сухом Французском языке; они были опубликованы в Бюллетене и оценены по достоинству знатоками.
Мы спали на диванах, пред которыми стояло по рабочему столику. Говорили мы по-французски, и ему нравился мой несколько изысканный парижский выговор; но малейший неправильный акцент в произношении приводил его в священное негодование. Это было для меня очень полезно.
- Что за толстая книга? спросил он меня в первое утро.
- Corpus juris и вдобавок издание Эльзевира.
- Я люблю толстые книги, вот и моя толстая книга!
Это был Кер-Портер, сборник великолепных гравюр на меди, изображавших развалины Персеполя, - огромный фолиант в полинялом красном сафьяне с золотым гербом.
- Это редкость, где вы ее достали?
- Где я достаю и свои монеты - на толкучке. Надобно только не щадить труда, надо все исследовать: погреба, подвалы. Видишь ли, когда умирает какой-нибудь знатный вельможа, державший только ради моды библиотеку или какую-нибудь коллекцию, то лакейство крадет из всего этого, что только можно, и продает за бесценок стоившее больших денег. Все это попадает на толкучку. Я туда делаю еженедельный набег. Толкучка неистощима, потому что воровство никогда не прекращается.
И действительно, десять лет спустя, один молодой гвардейский офицер, любитель картин, купил на толкучке, большую надвое распиленную картину Гольбейна, восстановил ее и отказался продать за 40000 Франков Людовику Филиппу, который именно в то время собирал произведения Гольбейна и посылал нарочного удостовериться в ее подлинности. Она представляла Поклонение Волхвов, сопровождаемых многочисленной свитой; фигуры в 1/4 натуральной величины. Весь Петербург бросился смотреть картину. Имя счастливца Ладевицкий; в большом свете его называли le petit guerrier (Маленький воин). Через эту картину он попал ко двору великой княгини Елены Павловны.
Бартоломей отправился в караул, я остался один. - Пора бы пообедать, - подумал я, и скромно осведомился на счет обеда у горничных, старшая из которых дежурила по ночам у графини, когда та страдала бессонницей. Ответ был: - У нас на кухне никогда не разводят огня, ставят только самовар, - мы никогда не обедаем, мы покупаем себе поесть в лавке. Молодой барин тоже посылает за обедом - ему все равно.
Графиня возвращалась ровно в 11 часов. Лакей нес за нею сверток с придворными конфетами, который она аккуратно каждый раз брала от десерта и которые на другое утро подавались к чаю. Этими отличными конфетами можно было заморить червячка до обеда.
Настала для меня своеобразная, тихая-тихая жизнь. По вечерам можно было чуять веяние вечности! Я чувствовал себя как в птичьем гнезде, в самой трущобе леса, называемого Петербургом.
- Пора тебе представляться! - сказала добродушная старушка. Я говорила о тебе с Грегуаром (Волконский, Григорий Петрович). Грегуар был сын министра двора, только что возвратившийся лауреатом из Парижского университета, отличный баритон и человек в высшей степени любезный. Впоследствии он был очень любим, в должности попечителя Петербургского университета.
С ним я тотчас же сошелся: это был человек по мне. Он явился ко мне сам, совершенно по-парижски и объявил мне напрямик:
Расскажу замечательный случай, связанный с воспоминанием об этом празднике. При Александре I-м вошло в обычай спрашивать у первого, кто входил во дворец, и у последнего, кто его покидал, имена их и на другое утро докладывать о них Государю. Один начальник отделения Военного Министерства, состоявшего под управлением всемогущего Аракчеева, никогда еще не бывал ни в маскараде, ни в театре, всю жизнь он ложился в 10 часов вечера и вставал с солнцем. Сестра его жены приезжает из провинции, и обе дамы решают, что старик должен ехать с ними в маскарад. На свое несчастье он соглашается. Он не знал, что такое выходить из дому, или возвращаться в 11 часов.
В огромном нижнем этаже дворца, в некоторых проходных комнатах есть маленькие, неосвещенные кабинетцы, снабженные креслами. Этот господин юркнул в один из таких закоулков, сказав своим дамам, чтоб они следовали за толпой, совершили бы своей маскарадный обход и потом пришли за ним. Но этого им не удалось исполнить: кабинетцев множество, занавески их опущены, давка страшная. Дамы в отчаянии отправляются домой, старика же утром будят полотеры. Он ушел последним, но и прибыл первым, в надежде поскорее отделаться. Проходит год.
Гофмана я знал наизусть; ведь мы в Риге, в счастливые юношеские годы, почти молились на него. Наш разговор был оживлен и продолжался долго; я был в ударе и чувствовал, что говорил как книга.
Наверху в библиотеке у Одоевского сидел худощавый господин, в черном фраке, застегнутый на все пуговицы, со звездой на каждой стороне груди. Я слышал от Бартоломея, что настоящая сторона для звезды левая, хотя бы их имелось и две. Черный господин напомнил мне Магнетизёра в Гофмане. Он рассуждал о полемике между Савиньи и Гансом по вопросу о posse-sio (владение), сделавшейся известною благодаря только что прибывшей из Парижа книге Лерминье: Introduction a l'histoire de droit (Введение в историю права), поверхностной, но написанной увлекательным слогом. И все же опять Париж!
Черный господин продолжал ораторствовать. Пушкин бросал на него нетерпеливые взгляды: ему очевидно все это страшно надоело. Я испросил себе слова, только потому (как я скромно прибавил) что слушал в Берлине лекции Савиньи и Ганса. Я попал в свою сферу и изложил дело ясно и доступно всем, что не составляет большой заслуги для студента Дерптского университета. Черный господин поднялся с места и прямо подошел ко мне. - Я принимаю по четвергам, - сказал он, и буду очень рад видеть вас у себя. Я Дегай (Павел Иванович).
Это приглашение имело для меня важные последствия. До сих пор тяжба моя заставляла меня не раз понапрасну стучаться у дверей его, он оставался для меня невидимкой, он, директор Министерства Юстиции. Дегай тотчас же определил меня на службу, что было моим самым горячим желанием, ибо Петербург мне полюбился.
Вакации никакой не было, и в строгом смысле слова нельзя сказать, чтоб я был определен к должности. Мне только поставили стул у стола регистратуры. Дегай занимал меня переводами на русский язык. Первой работой, которой он мне задал, был перевод последней главы Пандектов. Поводом к тому послужило то, что я неосторожно упомянул в его присутствии о надписи de regulis juris. Напрасно я, бедный, отказывался и уверял, что эту главу, именно эту главу, можно понимать тогда только, когда вполне овладеешь всей исполинской системой. Дегай никогда не отступался от своих приказаний, - труд был исполнен и оказался все-таки бесполезным, как и многое другое впоследствии.
Дегай жил в здании Министерства, обедал в два часа один и очень торопливо, чтобы успеть еще поработать до театра. Почти каждый день ко мне являлся лакей и звал меня к столу. Тут мне предстояло отвечать на множество разнообразнейших вопросов и вдобавок есть из почтительности. В Департаменте на это смотрели, как на начальническое покровительство, и это, в соединении с моей немецкой фамилией, делало меня окончательно ненавистным.
Как мне было быть? Жаловаться ему я не мог.
Приехал отец Бартоломея, и я должен был покинуть старую графиню. Я поселился в доме архитектора Висконти, ведшего свой род от знаменитых миланских Висконти. Граф Литта (Юлий Помпеевич) называл его кузеном и имел с ним один и тот же герб. Дом Висконти находился близ Школы Правоведения, и я занял в нем угловое помещение, которое прозвал полигоном.
Я простудился и несколько дней не мог ходить в Министерство. В одно прекрасное утро у моей постели очутился директор со связкою документов под мышкою, которую он мне и подал.
- Это вас вылечит, - сказал он. Мы получили из Общего Собрания Сената очень важное дело. Министр должен подать свое мнение. Дело поступило из Бессарабии и должно быть решено по действующему там Областному Уставу. Это немножко пахнет Римскими правом. Я рекомендовал министру для этой работы вас, но она должна быть окончена в два дня. Вот вам случай отличиться. По этому делу идут сильные происки, и надобно все держать в тайне. Подобный случай не представляется два раза.
Дело состояло в споре о наследстве и подходило под 116 новеллу кодекса Юстиниана, но было очень запутано. Тем не менее, решение его не представляло затруднений для юриста, ознакомившегося с Римским правом в Дерптском университете. Я изложил свое мнение в кратких словах, но не исчерпал всю суть, и на следующий день был позван к министру.
Но в отделении не было копии; они не догадались снять ее. Велико было отчаяние чиновников; они ходили как приговоренные к смерти. Дашков был вне себя.
- Так-то мне служат, таков-то у нас порядок! - кричал он и ударил чубуком, которого никогда не выпускал из рук, по своей конторке.
Дашков привык к сотрудничеству Дегая и решительным условием принятия этой должности поставил, чтобы при нем остался Дегай. Условий Николай Павлович, как известно, не любил. Кроме того существовало еще затруднение, что жив был Балугьянский, правая рука Сперанского, в должности директора Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии.
И все-таки Государь согласился. Именным указом Дегай был произведен в статс-секретари и возведен в должность директора Отделения, в тоже время были переведены туда два ничтожества, именно я и еще писец Дегая, который один только мог безошибочно переписывать его рунообразные рукописи. Затем, казалось бы, служба моя должна была подвигаться вперед на парах; но Дашков умер несколько месяцев спустя от маразма, потому что не делал никакого движения и слишком много работал. Место его заступил Блудов, он не был расположен к Дегаю и в течение 12-ти лет не дал нам написать ни строчки.
Нас как будто не существовало на свете, мы были, по меньшей мере, пятым колесом в колеснице. Когда умер Дегай, то и я, так сказать, был погребен вместе с ним. Меня отослали в министерство, откуда я прибыл, и министр юстиции, граф Панин, сунул меня в Главный Архив Сената. Там лежал я между мертвыми, представляя из себя архивную опись. Много лет спустя, я переместился с погребальной колесницы в более веселый экипаж, но и на нем далеко не уехал.
До Полтавы доедешь, до Киева не доедешь, говорит кучер в Тарантасе графа Сологуба.
Итак, косвенным образом я обязан князю Одоевскому, что поступил на службу. Его звали: lonmorancy russe (Русский Монморанси) по древности его рода. Он был ученый музыкант и в игре превосходил меня значительно. Музыка Баха была ему как своя. На Фильдов лад играл он превосходно, прямо читая ноты...
Директор Почтового Департамента, тайный советник Константин Булгаков, жил в бельэтаже почтового здания. Это был настоящий тип вельможи. Г-жа Булгакова, урожденная Варлам, молдаванка, умная и любезная светская дама, чуждая всякой спеси, часто говаривала:
Булгаков принимал по понедельникам и четвергам после театра. Когда меня ввел туда Григорий Волконский, я, прежде всего, был поражен блестящим освещением: горели карселевые лампы на изящных подставках. В первой комнате, избраннейшее общество играло на бильярде, во второй в карты, в третьей г-жа Булгакова наилюбезнейшим образом занимала гостей, разумеется, предварительно ей представленных. Главными гостями дома были: граф Нессельроде, граф Киселев, Левашов, Михаил Вьельгорский, Воронцов-Дашков, Литта. Здесь можно было встретить также Дмитрия Львовича Нарышкина, обер-егермейстера, в коротких панталонах, в чулках и башмаках, с напудренными волосами, с Андреевской алмазной звездой на черном фраке, - живая картина придворного человека старого времени! Племянник его Кирилла Александрович, обер-гофмаршал, был, напротив того, представителем нового двора.
Нессельроде отличался малым ростом, но великим умом. Черты лица его были тонки, нос с заметным горбом, сквозь очки сверкали удивительные глаза. Не будучи ни горд, ни слишком прост в обращении, он вообще избегал всяких крайностей. Он мало говорил, но когда говорил, то всегда сдержанным, хриплым голосом, звук которого нельзя было забыть. Движения его были быстры и привлекательны. Если он переходил в другую комнату, то походка его едва была слышна, неожиданно он оказывался уже там и, казалось, скорее, скользил по полу, чем ходил. Его манеры были скорее немецкие, чем французские.
Так однажды у графа Вьельгорского, своего короткого друга, после блистательного исполнения симфонии C-moll Бетховена, он, вскочив со стула, восторженно вскричал: - Этот Финал, - настоящее Боже царя храни!
Квартира канцлера в здании Главного Штаба была настоящий дипломатический городок, в котором он давал большие и малые дипломатические обеды. Иногда давались маленькие музыкальные вечера, на которых его племянница, прекрасная графиня Мария Нессельроде (впоследствии Калержи, потом супруга Варшавского Муханова) играла на рояле как настоящая виртуозка.
Я слишком 20 лет встречался с Нессельроде у Вьельгорского и наблюдал за ним с возрастающим интересом. Где бы он ни появлялся, всюду его встречали с сочувствием и уважением. В немногочисленном обществе он всегда носил темный фрак, с портретом Государя, украшенным алмазами, в петлице: это высшая награда после ордена Св. Андрея Первозванного. Нессельроде имел прекрасный крупный почерк. Он был, конечно, один из самых замечательных и дальновидных государственных людей Европы.
Граф Воронцов-Дашков по своей прекрасной наружности был самым блестящим придворным кавалером того времени. Его называли вечным именинником вследствие всегдашнего веселого выражения его открытого, привлекательного лица. Он был богатый вельможа и, женившись на Александре Нарышкиной, дочери обер-гофмаршала, стал жить на очень большую ногу. Он имел внешность дипломата и сохранял таковую даже играя на бильярде. Он был посланником в Турине и участвовал в Веронском конгрессе. За экземпляр моей книги: Beethoven et ses trois styls (Бетховен и его три стиля) он прислал мне 500 рублей асс. при любезной записочке, намекавшей на наши бильярдный партии у Булгакова.
Здесь я считаю нужным сообщить одну черту его беспримерной деликатности. Летом 1834 г. я приехал в город на почтовых лошадях и, проезжая в 2 часа ночи мимо ресторации Леграна (впоследствии Дюсо), ощутил зверский аппетит. Видя в окнах свет, я взошел и заказал себе что-то. Некий господин, в одиночку забавлявшийся на бильярде, обратился ко мне с предложением, не сыграю ли я партии, пока мне готовят кушанье.
- Почему нет! отвечал я, не зная, что господин этот игрок по ремеслу, игрок, стало быть, самого худшего разряда. Сначала он маскировал свою игру, делал грубейшие ошибки, но в конце всегда выигрывал. Я проигрывал партию за партией и в заключение вечера остался ему должен 200 р. - Завтра я пришлю сюда деньги на имя Леграна, - сказал я.
- Хорошо, отвечал он, - меня зовут Долгушев. На другой день я послал к Леграну своего слугу, который принес мне подписанную квитанцию и мои деньги обратно. Деньги, по уверению Леграна, были уже заплачены и притом человеком, выдававшим себя за моего слугу.
Я рассказал о происшествии графу Вьельгорскому, который отвечал:
- Не я это сделал, да и не могу придумать, кто бы это мог быть. Я подумаю.
Прошел год. Однажды Воронцов пришел к своему другу, которого он звал просто по имени Мишель, я, по обыкновению, тоже был тут.
- Слушай, Воронцов, сказал граф, - я подозреваю, что ты это сделал.
- Очень просто, отвечал он, - я находился в соседней комнате, узнал его по голосу и подумал, что он, вероятно, не при деньгах. Что его обманули, это не подлежало сомнению, я оставался до конца игры и потом обделал все дело. Если б он пошел далее, то я вышел бы и запретил бы ему играть.
Графу Литте было около 70-ти лет, но в парике он казался не старше 50-ти. Он был исполинского роста и также толст, как Лаблаш, но более подвижен и с ног до головы вельможа. Он носил обыкновенно вицмундир с самыми старшими Русскими орденами. В день рождения Булгакова он явился в большой Владимирской ленте на белом жилете, что для меня было очень внушительно: я был ведь маленький чиновник, видавший в департаменте только ленточки. Литта имел обыкновение повторять каждое свое слово: bon jour, bon jour, oui, oui, и т. д. голосом, звук которого походил на звук органа, когда прижмешь педаль. Он достиг высших должностей, благодаря только долголетней службе.
В последнее время он был обер-камергером и по-русски назывался Юлием Помпеевичем, соединяя таким образом в одном своем лице Цезаря и Помпея. Он был вдовец и жил один, но роскошно, в доме своем на Английской набережной.
Странное явление среди этого общества представлял Норов (Абрам Сергеевич). Он издал Путешествие по Сицилии, за которое Смирдин заплатил ему большие деньги. За проектируемое путешествие в Палестину и Египет он, как сам мне рассказывал, заставил Смирдина заплатить себе вперед и с этими деньгами, да с выручкой от продажи своей библиотеки, отправился в путь.
- Завтра отправляюсь я в Триест и в Александрию, - сказал он мне. Вы не можете себе представить, как приятно мне, что я сегодня выиграл у вас на бильярде 200 р., это так кстати, знаете, когда отправляешься в путь. Путешествие его появилось действительно в свет. Археологическая часть его, как и в первом сочинении, была ничто иное, как компиляция, и я сам доставлял ему для этого английские сочинения из библиотеки Вьельгорского.
По возвращении своем Норов служил в Комиссии Прошений под начальством Лонгинова и, ко всеобщему изумлению, был скоро назначен министром народного просвещения.
Годы проходили своей однообразной чередой. В иностранном цензурном комитете открывалась вакация. Комитет этот принадлежал тогда к Министерству Народного Просвещения. Мои друзья пристали к Норову, чтобы он замолвил словечко за меня. Дело было облажено, в высшем утверждении нельзя было сомневаться.
Сижу я однажды вечером за чаем у графа Сумарокова, моего короткого приятеля по музыкальной части. Сумароков командовал гвардией и был членом Государственного Совета, где он имел сношения с Норовым и кроме того состоял с ним в родстве. Вдруг является Норов и говорит мне: Ах, mon cher! Ваше представление лежало у меня на столе, совсем готовое, через два дня все должно было кончиться, и вдруг письмо от ***, рекомендующее Тютчева. Вы понимаете (vous comprenez)?
- Да, мы понимаем, - прерывает его граф Сумароков, - мы понимаем.
Так близко от гавани, от надёжной анкерной стоянки, и вдруг опять в море неизвестности! Эта обманутая надежда имела на меня самое тяжелое действие. И странное дело! Когда я работал с Норовым в библиотеке Вьельгорского, он написал в моей памятной книжке:
Tu proverai come duro cale so pane altrui, il subir e scender per altrui scale (Ты испытаешь, каково есть чужой хлеб и обивать чужие пороги. Данте).
Это отлично применялось ко мне, в особенности будучи написано еще его рукою.
Граф Вьельгорский был так любим членами общества бильярдной игры, что лишь только он появлялся, его сейчас же окружали. Это случалось обыкновенно ночью после часу, так как он был постоянным посетителем вечеров Государыни. В виц мундире и белом галстуке (как того требовал придворный этикет) он был отменно моложав; я и теперь, 44 года спустя, не могу понять, как это он в то время был только камергером и имел всего одну Анненскую звезду. Но как шла к нему звезда!
- Ну, начинайте же! Прямо без приготовлений! говаривал в таких случаях Вьельгорский. Он подпевал, не имея голоса, конечно, но с необыкновенным вкусом. В последние годы царствования Александра I он впал в немилость и удалился на жительство в свое Курское имение, где соседом его была, князь Барятинский, отец нынешнего Фельдмаршала. Там они имели (как Вьельгорский часто мне рассказывал) зал для кегельной игры, освещавшуюся Аргентовскими лампами, и превосходный оркестр под управлением капельмейстера-немца.
Там он вник в самую сущность симфоний и нередко сам управлял оркестром.
Булгаков не делал никакого различия между своими гостями. Только когда являлся министр двора, князь Волконский, то он встречал и провожал его с некоторою торжественностью. Странно было, что не показывался никогда министр почт князь А. Н. Голицын. Он был одним из самых высокопоставленных лиц при царском дворе, но в последние годы жизни он вдался в мистицизм и избегал общества.
Знаменитый портрет его в натуральную величину, писанный Брюлловым и теперь находящийся в Академии, увековечивает его. Вот прекрасная черта его характера. Он имел обыкновение рано утром выходить на прогулку в своем сером плаще. На дворцовой набережной он заметил какого-то человека, который несколько раз сходил по лестнице к Неве и наконец, остановился на последней ступеньке. Князь обратился к нему с вопросом, что он тут делает. Когда он услышал, что человек этот из крайней бедности думал утопиться, он приняли в нем участие и поместил у себя в доме. Не всякий мистик поступает так!
Я должен упомянуть здесь о замечательном вечере у князя Голицына, женатого на графине Аделаиде Строгановой. Я был приглашен чрез Булгакова. Вечери был замечателен, собственно великолепием помещения (в доме Строгонова, у Полицейского моста). Общество собралось небольшое, но ужин в громадной, двухэтажной зале, плафон которой украшала исполинских размеров картина, писанная Итальянским мастером, был великолепен. Ужинали на ломберных столах по четыре человека. Я сидел за одним столом с Вьельгорским, Булгаковым и Голицыным. Граф вдруг сказал:
- В этой зале следовало бы играть последний акт Донжуана! Действительно, зала, благодаря темной плафонной живописи погруженная в полумрак, который казался еще гуще от мерцания восковых свеч, производила впечатление чего-то трагического. Этого вечера я никогда не забуду. Вьельгорский выказал чрезвычайные технические познания, рассуждая о Моцарте, об этой bible musicale (музыкальная библия), как его друг Россини называл Донжуана.
Летом у Булгакова в те же дни собиралось то же общество на принадлежавшей ему большой даче на Аптекарском острову, против Каменного острова. В день его рождения танцевали, и он сам подавал тому примерь вальсом. Здесь я в первый раз увидал графиню Завадовскую (урожденную Влодек), которая слыла за первую красавицу при дворе, и действительно, она представляла собою роскошную фигуру Юноны. Надо было видеть ее в вальсе с Булгаковыми! Он был красивый мужчина в цвете лет, всегда в темно-синем фраке с металлическими пуговицами и с золотой звездой Белого Орла на груди.
Граф Завадовский казался мне очень симпатичным человеком, хотя и записался в денди немножко поздно. Он пригласил меня навещать его по утрам; хозяйства он не держал. Мой граф (Вьельгорский) сказал мне:
- Слушай, не ходи туда! Артистическая душа не может спокойно созерцать такую прекрасную женщину, я испытал это на себе.
Каждое 1-е июля весь Петербург устремлялся в Петергоф, большой сад которого очаровательно иллюминовали в честь Императрицы, и весь двор длинной вереницей линеек совершал процессию среди этого моря огней. На одном из этих диванов на колесах я увидел Пушкина, смотревшего угрюмо (1834). Он только-то получил звание камер-юнкера. Кроме членов двора никто не имел права на место в линейках. Может быть, ему не нравилось это.
В Петергофе показали мне новый указ о разрядах в гражданской службе, по которому всякий имел право держать экзамен в университете, хотя бы он в нем и не учился. Это имело для меня большое значение в виду желания моего поступить на службу. На другой же день я вошел с прошением о допущении меня к экзамену к ректору Дюгурову, но получил отказ под предлогом, что для этого надобно уже состоять на службе.
Я следил за Уваровым, пока не увидел его одного; тогда я подошел и заговорил по-французски. (Я слышал, что он это любил, но лично я с ним не был знаком). Я произнес ему маленькую иеремиаду. Он милостиво выслушал мои жалобы и сказал:
- Я люблю дерптских студентов; приходите ко мне завтра.
Когда я явился, дежурный чиновник передал мне готовое письмо на имя ректора. Таким образом, дело было покончено. Правда, ректор сказал мне наилюбезнейшим образом:
- Вам не удастся выдержать экзамен; но на это я отвечал ему, что мои обстоятельства заставляют меня все-таки попытаться.
Профессор Римского права, Шнейдер, как он мне сам рассказывал впоследствии, когда, мы сделались Римскими друзьями, сказал ректору:
- Дайте этого господина мне, он у меня провалится; я не люблю учеников Клоссиуса.
Я явился на экзамен с Эльзевировским Corpus juris в руках.
- Это к чему? резко отнесся ко мне Шнейдер; но, как серьезный ученый, более филолог, чем законовед Римского права, он не мог удержаться, чтоб не взять у меня книжки и не перелистать.
- Я знаю, чего вы ищете, - сказал я ему несколько вызывающим тоном, ибо мне все равно предстояло провалиться. - Вы хотите убедиться, действительно ли это издание принадлежишь к редчайшим; с намеренною опечаткою secundus pars, вместо secunda?
- Где вы это достали? спросил он почти любезно.
- В нашем семействе уже третье поколение юристов, - отвечал я; - мой дед сделал эту находку в Лейпциге. Эльзевир может в настоящую минуту послужить вам к тому, чтобы следить по нем, когда я буду приводить вам на память источники.
- Вот как! Ну, так прочтите мне на память 118 новеллу, - сказал насмешливо профессор. Я исполнил это без запинок, как будто песню спел. На 2-й главе он прервал меня и просил перейти к последней. Когда и это было исполнено, он сказал, обращаясь к прочим экзаменаторам:
- Экзамен выдержан. Как жаль, что наши студенты не находят времени на такое же изучение источников! Но мы с вами еще немножко позабавимся, милостивый государь; я желал бы видеть…
Мы забавлялись целых четыре часа. Между прочим, он предложил мне вопрос насчет внутренней системы Пандектов, которую открыл Блуме в Кенигсберге: открытие, стоящее открытия Америки. Я был в ударе и прочел целую лекцию. Экзаменатор только улыбался. Последовали быстрые, как молния, вопросы по различным частностям и такие же ответы на них - настоящая перестрелка. Воротясь вечером домой к кузену Бартоломею, я написал обо всем случившемся в Дерпт моему уважаемому учителю Клоссиусу. Он выразил мне в ответ свое удовольствие и советовал продолжать далее изучение источников. По другими предметам дело обошлось не хуже, и мне дали диплом действительного студента. Какое странное название!
На первый раз я подвергся со стороны благодушного барона Врангеля (профессора Русского законодательства) не придиркам, но, по выражению студентов, пытке. По выдержании экзамена на магистра я должен был, в квартире декана Ивановского, в высшей степени почтенного ученого, отвечать на предложенные мне вопросы по-латыни (какая радость!), и притом на его глазах, за тем же столом, за которым и он работал. Я исписал несколько листов; вопросы были предложены Шнейдером на отличном Римском языке (мы у Клоссиуса привыкли делать различие между Римским и Латинским языками). Я разгорячился и едва мог положить границы своей плодовитости.
Вечером, проезжая мимо модной ресторации Кулона (ныне гостиница Европа), я почувствовал страшный аппетит. Зала была пуста и освещена только вполовину. Какая-то длинная фигура, казалось, спала у маленького круглого столика.
Блудов, доставил нам аранжированный для фортепьяно отрывок, из оперы "Гугеноты", тогда еще неизвестной. Графы созвали комитет из своих, музыкальных друзей, чтобы познакомить их этой оперой. Пришел и Нессельроде и был так оживлен, и молод, что даже участвовал в хорах. Маленькое общество было очень весело, в среде его господствовала совершенная простота. Нессельроде, однако, не остался обедать.
- Мне надо отправить курьера, - сказал он и исчез в своем легком, летнем пальто и летней циммермановской шляпе, на великолепную дачу свою, находившуюся недалеко. После обеда доложили, что две дамы, приехавшие верхами, желают поговорить с графами.
- Знаю, - весело сказал Вьельгорский, - они мне обещали заехать, - и взял меня с собою на балкон. На высоком коне, который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытом землю, грациозно покачивалась несравненная красавица, жена Пушкина; с нею были ее сестра и Дантес. Граф стал усердно приглашать их войти.
Оба вышли в отставку, потому что не хотели служить Людовику Филиппу, и это обстоятельство, благодаря тогдашним натянутым отношениям к Франции, послужило в пользу обоим молодым людям. Дантес был красивый молодой человек, маркиз маленького роста и с незначительным лицом. Государь предложил им вступить в Русскую службу. Дантес поступил на счет Императора в Кавалергардский полк, - очень важный шаг вперед; маркиз в армейский полк, стоявший в Ямбурге.
Вскоре, неизвестно по каким причинам, голландский посланник, барон Геккерен, усыновил Дантеса и объявил его своим наследником. Дантес возымел успех в обществе; дамы вырывали его одна у другой. В доме Пушкина он очутился своим человеком.
Геккерен был человек злого нрава; он писал оскорбительные, анонимные письма Пушкину и распространял их между публикой. Пушкин счел себя обязанным вызвать Дантеса на дуэль и, как известно, был им убит.
Пушкин умер в доме княгини Волконской, супруги министра двора, находившемся у Конюшенного моста. Весь город как будто оделся в траур: перестали посещать театры; густые, безмолвные толпы простонародья благоговейно вступали в печальный дом, где лежало тело Пушкина. Величие смерти отражалось в умных чертах благородного поэта. Похороны его были народным событием. Невский проспект, вплоть до Аничкова моста был битком набит публикой, состоявшей из всех классов общества, так что едва оставалось место для проезда погребальных дрог и бесчисленных карет, сопровождавших печальный поезд.
Зимою 1834 г. я узнал, что в Петербурге можно быть министром и все-таки не существовать на свете. На Большой Морской жил министр народного просвещения, адмирал Шишков, принимавший у себя по воскресеньям. Старый моряк знал только своих карточных партнеров; жена же его разыгрывала роль любезной хозяйки. Гости не обращали внимания на хозяина и только в первый раз были ему представляемы.
Это была словно голубятня: туда влетали и оттуда вылетали, не зная зачем. Общество состояло по преимуществу из знатных поляков, состав которых часто менялся. Вывали танцы под звуки фортепьяно. Некто Скипор, потомок древней польской фамилии, представлял собою тип механического, в поте лица трудящегося танцора.
Место Шишкова заступил Уваров, и настал день после Киммерийской ночи.
Любопытное лицо был Сергей Васильевич Салтыков, живший в собственном доме на Малой Морской и не пускавший к себе никаких жильцов. Всю зиму напролет у него собиралось по вторникам высшее общество на танцевальные вечера, причем имелся маленький бальный оркестр. Салтыков принадлежал к древнему боярскому роду: жена его была урожденная тоже Салтыкова. Есть также графы, носящие эту фамилию; но не имевший титула Салтыков был старший в роду. Свои вторники он называл "Les Mardis europeens".
Он был страшный болтун, но образован и полон познаний. Его значительная библиотека заключала в себе величайшие редкости, например "Записки" ювелиров братьев Бемов по поводу ожерелья королевы Марш Антуанетты, с раскрашенным рисунком ожерелья в его натуральной величине, с описанием всех его больших, приобретших историческую известность алмазов. Салтыков не позволял никому читать даже на переплетах заглавия его книг. Если называли при нем какую-нибудь книгу, он сам выносил ее и говорил: - У меня все есть.
Он имел наружность придворного, рост несколько меньше среднего и широкие плечи. Он опускал свою выразительную голову так низко, что казался горбатым, чего, однако вовсе не было. В этом положении он как будто искал чего-то на полу. Такие оригиналы, как он, в настоящее время невозможны. Он пресерьезно рассказывал истории, в которые сам не верил, и сочинял для собственного своего обихода Русскую историю, ссылаясь на которую, рассуждал об исторических фактах так, что слушатель недоумевал, ужели он находится в знатном доме, в собеседничестве с умным человеком, а не с сумасшедшим.
Граф Бенкендорф, нанимавший квартиру близ Салтыкова (как мне неоднократно рассказывал сей последний, имевший обыкновение повторять себя), сказал будто бы ему раз:
- Пока я живу возле вас, вы можете быть покойны.
Показаться на улице раньше 8 часов пополудни Салтыков считал ниже своего достоинства. Ровно в 4 часа он ежедневно являлся в книжный магазин Белизара (теперь Дюфура), что у Полицейского моста и, не снимая шляпы, осматривал все книги, хотя они за один день и не могли перемениться, в течение двух часов, стоя, перелистывая он их, никому не кланялся, лишь слегка кивнет головой на поклон знакомого или протянет один палец, если знакомый принадлежал к высшему обществу. Затем он отбирал себе целую груду книг и тут же платил за них наличными.
Ровно в 6 часов он возвращался пешком домой, пробегал мелкими, звонкими шагами по первой комнате, в которой был уже накрыт стол, и входил еще со шляпой на голове, в каминную, смежную с библиотекой. Во второй комнате, очень уютной, с постоянно горевшим мраморным прекрасным камином, проводили дообеденное время его жена, дочери, сыновья и гости. Немногие приходили без приглашения, боясь злого хозяйского языка и его исторических откровений, а приглашать Салтыков не имел обыкновения.
Из кабинета он выходил совсем другим человеком, приветствовал весь собравшийся кружок, подавал гостю палец, знатным гостям отвешивал сухой поклон и говорил: - Пойдемте к столу.
В это мгновение сыновья за его спиной нападали на водку.
Но не всегда, однако ж, он до такой степени ослаблял повода своей фантазии; иногда рассказ его был очень интересен. Например, о великой Французской революции, во время которой он жил с родителями в Париже. Он утверждал, что видел собственными глазами, как в Пале-рояльском саду Камиль Демулен вскочил на стол и произнес свою знаменитую речь. Конечно, имелись основательные причины не верить этому рассказу; ибо в 1789 году он был еще очень молод, и родители его, скрывавшиеся в Париже, вряд ли отпустили бы юношу в такое; опасное время в Пале-рояль.
Он прекрасно знал французскую историю и удовлетворительно историю Средних веков. Он часто спрашивал меня: - Что же Мишель никогда не зайдет ко мне? Мы ведь были друзьями. Я передавал это графу Вьельгорскому, и в один прекрасный летний день мы оба явились к нему. Я держался позади графа, как будто мы только что встретились на лестнице. После обеда мы отправились гулять в Летний сад, в котором пробыли до вечера. Граф завел разговор о былом. Тут было с обеих сторон чего послушать, чему поучиться.
- Мишель, - сказал Салтыков на прощанье, слегка растроганным голосом, - мое шампанское было нехорошо, я это чувствовал; я не знал, что ты будешь. Но если ты опять придешь, я тебя лучше угощу; говори заранее. Если хочешь, я за вами сам заеду в карсте, где бы вы ни были.
Салтыков любил высокопоставленных придворных. Он был мне очень благодарен за мое в этом случае посредничество, но сам он не оказал бы никакой услуги ни мне, ни кому бы то ни было; да никто и не обращался к нему за этим. Успешнее было бы пойти стучаться у входа в гробницы фивских царей.
Самое драгоценное в его доме, как говорили, была коллекция табакерок, хранившаяся в ящиках из зеркального стекла и которую Салтыков никому не показывал. Он был страшный нюхалыцик и каждый день употреблял новую табакерку, одну другой богаче. Он любил, чтоб их замечали, и с удовольствием пускался на счет их в объяснения. По большей части то были исторические табакерки, и сии последние он покупал, что бы они стоили, держа с этой целью корреспондентов в Париже, где, как кажется, можно достать все, если только сумеешь поискать.
Каждой из своих трех дочерей он дал особое прозвище: Елену Салтыкову называл roche-croche, что не имеет никакого значения, а разве только соответствовало ее дородности; София должна была откликаться на имя Tania, а старшую, вышедшую замуж в Швеции за Моргенштерна, называл он la baronne, причем обыкновенно пускался в похвалы Швеции и шведам.
По смерти его дом и все движимое имущество были проданы. Двухэтажный дом, с низенькими, уютными комнатами, был вполне барское жилище. В нем вы чувствовали себя, как в укрепленном, уединенно стоящем замке богатого землевладельца. Первый, затопляемый осенью камин, меня в особенности привлекал туда. Даже сам вход в него, прямо с тротуара в нижний этаж, дышал уютностью, благодаря камину, пылавшему между колонн этой длинной прихожей. Дом бесследно исчез. Теперь на его месте стоит Grand-Hotel.
Смерть Салтыкова едва ли удостоилась какого-либо упоминания в обществе, в течение многих лет пользовавшимся его гостеприимством. Я сожалел о нем, как о потере истинно оригинального человека.
- N'est pas original qui veut, mais qui peut (Не всякий оригинален, кто хочет им быть, но кто может), возражал я всякий раз, как заходил разговор о Салтыкове (Сергей Васильевич Салтыков (владелец огромной библиотеки, которая так долго продавалась в Москве у Готье, внук Петра Васильевича (старшего брата Елизаветинскому Сергею Васильевичу) и сын Василия Петровича от брака его с княжною Евдокией Михайловной Белосельской), род. 1777, ум. 10 мая 1846. Жена его, Александра Сергеевна, была тоже из рода Салтыковых), le glorieux, как его называли.
В этом мне поддакивал генерал-адъютант и знаменитый военный писатель барон Жомини, отец известного в настоящее время дипломата. Этот умный человек тоже бывал иногда у Салтыкова.
1-го июля отвез он меня в своей карете от него в Петергоф, где меня ожидал граф Вьельгорский. Этим он мне предоставил случай чему-нибудь научиться, которого я не хотел упустить. Я просил снисходительного и ученого генерала объяснить мне, в чем собственно заключается военное искусство, о котором он написал свое знаменитое сочинение.
- Очень просто, - отвечал он, - оно, в конце концов (en derniere instance) заключается в том, чтоб всегда быть двоим против одного.
Салтыков не бывал ни в театрах, ни в концертах: он был отшельник, эгоист, но это не мешало ему быть человеком с сердцем. Когда я имел несчастье сломать себе ногу и лежал в постели, он навещал меня ежедневно. Для этого ему нужно было только продолжить свою прогулку из Малой Морской к Велизару до Литейной, и притом пешком; ибо он, имея возможность держать столько экипажей, сколько пальцев на руке, никогда не ездил. В это время он опаздывал к обеду, заставлял себя ждать и, выходя из своего инкогнито, печально приговаривал: - Он умрет!
Жаркое июльское солнце раскаляло пустынную улицу, на которой не видно было ни одного экипажа. - Как ты попал сюда? спросил граф.
- Какими судьбами вы-то сюда попали, граф? (Мы оба отличались особенностью, что никогда не ходили гулять).
- Я курил в Михайловском сквере, - объяснил мне граф, sicut meus est mos (По моему обыкновению), и тут мне пришло на память, что Алексей Салтыков, Индеец, два раза оставлял у меня свою карточку. Он вообразил, что застанет меня дома летом!
- Ну, мне надо у него побывать, и так как это недалеко, то я отправлюсь пешком. Пойдем со мной, ты увидишь экземпляр, который нечасто попадается. Не говорил ли ты, что тебе различные местности в Индии также хорошо знакомы, как в Альпах? Не правда ли?
- Что касается индийских монументов, то правда.
- Ну, так идем вместе. Я ему скажу, что ты был в Индии, это ему доставит удовольствие. Может быть, вы еще сделаетесь друзьями. Ты можешь от него многого наслышаться и многому научиться?
- Он родственник Сергею Васильевичу?
- Нет, он князь Салтыков (Князь Алексей Дмитриевич Салтыков, внук Александровского воспитателя). Он каждые пять лет приезжает сюда для возобновления паспорта.
Он подошел к графу (посещение которого для него, конечно, было очень важно), так как будто он только что с ним виделся. Граф обнял его. Меня, разумеется, князь осмотрел с ног до головы. Это было вполне по-английски. Английский элемент, как я впоследствии имел случай заметить, хотя и умеренный Русскими благодушием, проникал его насквозь, не имея, однако над ним решительного преобладания.
Итак, я был представлен, как человек, тоже побывавший в Индии. Салтыков принял это так равнодушно, как будто ему говорили о Павловске.
- Каким путем вы туда попали? - спросил он своим чарующим голосом. Я назвал обыкновенный путь из Суэца на Бомбей. Он отвечал, что этим путем ездил три раза и взял карту, нарисованную чернилами и на которой все три его путешествия были обозначены красными, черными и синими цветами. Карта была составлена искусно и на память, изображая только необходимое.
- Прекрасная страна света, - сказал князь, - это остров Цейлон. Наблюдали ли вы там солнечные восхождения? Что за великолепие цветов!
Он подвел графа к изданию Даниэля. Это совершенно верно природе, тут ничего нет преувеличенного. Там действительно все так горит. Я в отчаянии, что не могу воспроизвести этого освещения, а Даниэль представляет не более, как только оттиски красок.
В соседней комнате я рисую красками - хотите, я покажу вами несколько картин, изображающих пальмовые леса. Освещение зелени еще мне удается, но на передачу огневых тонов в Цейлоне искусства моего решительно не хватает.
- Любите ли вы руины? - обратился он ко мне.
- Храмы в пещерах Сольсетты и Эллоры возбудили во мне удивление, - отвечал я так скромно, как только возможно. Салтыков перевернули лист.
- А! Кайлас! вскричал я тотчас же, - с огромным слоном на паперти, у которого нет одной ноги.
Хотя он имел обыкновение есть только раз в день, но по его приглашению мы часто отправлялись с ним по вечерам ужинать. На первый раз я выбрал ресторан Леграна (ныне Дюссо), потому что первая от входа, комната хорошо проветривается, украшена цветами, а главное, совершенно пуста. Мы бывали там часто и долго беседовали. Салтыков приказывал приносить себе счет на следующее утро, ибо не носил с собою портфеля, боясь испортить сюртук работы первого лондонского портного.
- В Париже не умеют шить платья. На мой вопрос: что же такой сюртук стоит? он отвечал спокойно, по своему обыкновению (так как вообще его речи никогда не имели в себе ничего хвастливого, а наоборот, отличались женственной застенчивостью): ten founds, 10 ф. стерлингов. Великим знаком расположения, которое оказал мне Салтыков, был подарок его видов, числом свыше ста. Он был на этот предмет скуп; литография стоила ему 10000 Франков. Он мне подарил их два экземпляра. Один находится в Риге в надежных руках; другой я продал за хорошие деньги. Это было с моей стороны непростительно, но вполне в порядке вещей.
Мы говорили по-французски, но он любил приплетать и английские слова. Кто умел искусно предложить вопрос, тому он отвечал охотно, хотя и не любил расспросов. Я наслышался от него много интересного и должен был бы вести журнал обо всех нелегко доступных данных и цифрах относительно народонаселения, правления Индийского и проч. В Калькутте Салтыков проживал по месяцам у вице-короля. По вечерам, когда спадала жара, они выезжали на слонах прогуливаться по берегу Ганга. Английские верховые лошади были бы удобнее, но это бросило бы тень на ореол, которым вице-король считал нужным окружать себя.
- Однажды за столом, - рассказывал он, - заметил я удивительно прекрасного мальчика индуса. Я не спускал с него глаз, ибо мне очень хотелось снять с него портрет; но я не знал, как к этому приступить, чтоб не унизиться в глазах англичан, считающих туземцев за низшую породу людей и очень много придающих весу моему общественному положению и титулу.
По внешним манерам впоследствии в Париже напомнил мне Салтыкова Шопен. Для полного сходства Шопену не доставало 20000 рублей годового дохода, которых Салтыкову, не смотря на всю его экономно, казалось мало, чтоб не уступать англичанам в Индии, в особенности в Симлахе.
Салтыков умер в Париже, где и брат его Петр жил годами, собирая коллекцию рыцарских доспехов. Я ему часто предсказывал, что он закончит Парижем, чему он не хотел верить, так как не любил Парижа. Там он сажал огурцы и солил их на русский манер. Он жил отшельником и приглашал к себе в дом только хороших рисовальщиков, так как и сам был не из последних. Он несколько раз писал мне, и я показывал его письма графу.
- Видишь ли, - сказал мне граф, - как хорошо, что я тебя тогда встретил по дороге к Салтыкову. Иначе я никогда и не подумал бы представлять ему тебя; это произошло случайно.
Пусть читатель представит себе положение молодого человека, приехавшего в Петербурга вести процесс в Сенате против человека, власть имеющего. Таково было именно мое положение. Я очутился в большом городе без средств, без знакомств и предстал перед Сенатом, как перед Сфинксом, которому человек, власть имеющий, успел замолвить словечко.
Процесс не касался лично меня, но дорогие сердцу моему родственники почтили меня доверием, которое я решил оправдать, во что бы то ни стало. Я уже рассказал в первой главе Записок, как приютила меня в своем доме старая графиня. У нее в доме я почувствовал твердую почву у себя под ногами в городе, где дважды два только случайно составляли четыре, а могли и равняться нулю или составить семь и более.
Кузен Жан, вечно возившийся со своими монетами, не имел никакого понятия о тяжбах и о тех людях, с помощью которых я мог добраться до своих судей. Старая графиня считала, что министр двора, князь Волконский, есть начало и конец человечества. Она видела его ежедневно, но не смела говорить с ним о делах. Об испрошении его покровительства нечего было и думать. Волконский не вмешивался ни во что, это было всем известно, и даже в делах, подлежавших личному его ведению, он обыкновенно говорил - нет, почему его и называли, вместо князь Петр Михайлович, le prince de pierre или le prince Non (каменный князь, или князь Нет).
В пятидесятилетний юбилей его службы Государь возвел его в фельдмаршалы. В доме старой графини я узнал, что есть знатные люди, от которых никогда не отстоишь так далеко, как если живешь с ними и в среде их общества. На святках 1833 года графине вздумалось сделать Волконскому сюрприз, который, скорее мог доставить удовольствие ей, чем ему. В то время было еще в обычае, на святках, разгуливание ряженных по городу.
Старуха нарядила детей своих племянниц, госпож фон Эссен и фон Ломанн. Я должен был тоже надеть домино и маску. Под предводительством старой барыни мы молчаливой процессией взобрались по узкой, но удобной витой лестнице Зимнего Дворца, ведшей в жилище Волконского. Когда мы вошли к нему, он приказал нам, детям (мне было тогда уже 24 года) чего-то подать. Он милостиво протянул мне руку и обменялся со мной парой французских слов, через что я много вырос в глазах старой графини.
На масленице князь обыкновенно отдавал на один вечер свою прекрасную ложу в Большом театре графине и детям ее племянниц, с включением в то же число и меня. Тогда она говорила:
- Мы были при дворе, - и придавала этому чрезвычайную важность. Раз в году, летом, графиня посещала свое именьице на 70-й версте по Нарвской дороге, чтобы заняться сельским хозяйством и обеспечить свои доходы. Жан, я и старая горничная должны были отправляться с нею.
На границе имения нас встречал староста. Приехав в именьице, графиня ревностно принималась за инспекцию хозяйства, заключавшуюся в том, что горничная отпирала старинные шкафы, вынимала оттуда запыленные чашки, тарелки, всякую столовую посуду, проверяла ее по списку, чистила и вновь запирала. В этом и состоял весь осмотр, оканчивавшийся маленькой речью, в которой взывалось к совести старосты. Тогда старушка, вполне довольная, объявляла нам:
- Теперь поедем к соседям.
Я толкался к сенаторам, в руках которых находился мой процесс, но не был принимаем. Ту же участь испытал я и у обер-прокурора Лобанова-Ростовского. Между тем для меня все зависело от того, чтоб увидеться с этими господами и поговорить с ними об отношениях, о которых они не имели понятия, ибо таковых не существовало в России.
Что тут можно было сделать посредством письма? Да и вопрос еще, прочтут ли как следует письмо, в котором, однако ж, было бы столько существенного для чтения!
При таком положения дел, угрожавшем моему будущему, равно каясь и настоящему, встретился я в магазине с одной московской дамой, с которой познакомился год тому назад в Москве и которая, собираясь ехать за границу, по пути приехала на короткое время в Петербург.
Устинов был прекрасный виолончелист. С ним и Бутеневым (скрипка) я разыгрывал бетховенские трио при единственном слушателе, австрийском интернунции, как тогда называли австрийских посланников. В Константинополь я ездил не из праздного любопытства, а из пламенного энтузиазма к Римскому праву, откровение о котором я получил в Дерпте. Я имел в виду отыскивать потерянные источники его в библиотеке Сераля и в Греческих монастырях. На это я получил от моего великого учителя Клоссиуса инструкции и наставление, как, с помощью различных тинктур, вытравлять с пергаментов ничего не стоящую рукопись какого-нибудь монаха и восстанавливать Римский текст, замаранный им для того, чтоб воспользоваться пергаментом.
Этим способом Нибур в Вероне, и Клоссиус в Милане восстановили несколько потерянных юридических текстов. Эти открытия и увлекательные лекции Клосcиуса очаровали меня. Мне тоже захотелось открыть что-нибудь! Необдуманное предприятие - ибо на это нужны средства, которых у меня не было, и долголетние многотрудные изыскания.
На вечере у г-жи Сольдан, когда я вскользь сообщил Лобанову о моих покинутых археологических планах, он сказал мне:
- Ваши кодексы напоминают мне, что я сенатские бумаги принужден читать в перчатках, ибо иначе они режут мне руку.
Лобанов всегда сохранял обо мне благосклонное воспоминание. Когда я в 40-вых годах прибыл по поводу своего процесса в Москву, он был председателем Общего Собрания Московского Сената. Он объявил мне, что вечера проводит в Английском клубе, позволил мне навещать его там и чрезвычайно любезно записывал меня в книгу гостей. Там мы целые вечера проводили в беседах. Он рассказывал мне о прошедшем higt life (Высшее общество) в Москве.
- Этот великолепный дом, - говорил он, - английский клуб, принадлежал графу Разумовскому.
В своей родной Риге я числился адвокатом. Дядя мой, генерал-лейтенант Бартоломей (Алексей Иванович), принадлежавший к дворянскому роду лифляндского острова Эзеля, женился в Петербурге на графине Девьер (Александре Николаевне, урожд. Сабурова) и затем исчез для нас в высшем воинском кругу.
Он был человек сердечный и во времена молодости искреннейший друг моего отца. Отец Бартоломея находился в таких дружеских отношениях с моим дедом по отцу, что они поменялись между собой старшими сыновьями, так что мой отец воспитывался в Аренсбурге, а Бартоломей у нас в Риге. Редкий случай, характеризующий семейные отношения старого времени.
Мне велено было явиться к дядиной теще. Старая графиня (Марья Михайловна Девьер) жила у Конюшенного моста на Мойке, в тесной, но уютной обстановке. Я очутился перед маленькой, дородной женщиной, с головой, глубоко ушедшей в плечи, с серыми проницательными глазами и рябоватым лицом. Графиня была урожденная Сабурова, а Сабуровы принадлежат к древнейшим боярским родам. Она во всех отношениях была представительницей прошлого столетия, объяснялась только по-русски и придерживалась старого патриархального обычая говорить всем, старому и молодому, знатному и незнатному, ты.
Некогда она была богата и жила открыто. Теперь посвятила она всю себя моему двоюродному брату Ивану (Алексеевич) Бартоломею, который только что был выпущен из юнкерского училища гвардейским офицером и жил у нее в доме. - Мой Жан ученый, сказала она, - и ведет разговоры все об ученых предметах. Согласен ты жить у нас, в одной с ним комнате? Я принял предложение с радостью.
Жан, хотя и прошел только курс юнкерского училища, был действительно в своем роде ученый. Он был не из тех, которые полагают, что на все достаточно одного только здравого человеческого смысла, этого знаменитого здравого смысла, на который все ссылаются, но который встречается так редко. Он был нумизмат по природе. Сам собой выучился он Персидскому языку. Сассаниды были его специальностью. По целым дням сидел он за своими монетами. Известный нумизмат, академик Дорн, посещал его и советовался с ним при покупке монет. Когда Жан брал в руки монету, взор его насквозь проницал ее, и часто говаривал он, к удивлению великого немецкого ученого: эта монета настоящая, а эта известная Парижская подделка, и представлял доказательства своему мнению.
Также и по латыни он выучился сам собой, практически, по Римским монетам, а не по Брёдеру и Шаллеру. Все в нем было дельно и основательно. Если я предлагал помочь ему в разборе какой-нибудь надписи на монете, он отвечал: Не надо, не надо! Дня в два я сам добьюсь, лишь то остается в памяти, до чего сам дойдешь! Латинским языком занимался он только для разнообразия, следуя пословице: Varietas delectat (Разнообразие приятно). Он любил Римские изречения. Восточными языками он обладал как родным. Он говорил каким-то особенно-изящным русским языком, не таким как другие, и превосходно по-французски. Относительно произношения, он был педант и в спорах об этом предмете всегда оставался прав.
Писать на иностранных языках он терпеть не мог, а также не любил немецкого языка, который знал очень мало - явление, очень часто встречающееся в детях, происходящих от смешанных браков. Он был ультра-аристократ и обладал сведениями по части геральдики. Герб его отца был прекрасен: Пегас с надписью: per aspera ad astra (Трудным путем к небесам). Свои нумизматические исследования он представил Академии на сухом Французском языке; они были опубликованы в Бюллетене и оценены по достоинству знатоками.
Мы спали на диванах, пред которыми стояло по рабочему столику. Говорили мы по-французски, и ему нравился мой несколько изысканный парижский выговор; но малейший неправильный акцент в произношении приводил его в священное негодование. Это было для меня очень полезно.
- Что за толстая книга? спросил он меня в первое утро.
- Corpus juris и вдобавок издание Эльзевира.
- Я люблю толстые книги, вот и моя толстая книга!
Это был Кер-Портер, сборник великолепных гравюр на меди, изображавших развалины Персеполя, - огромный фолиант в полинялом красном сафьяне с золотым гербом.
- Это редкость, где вы ее достали?
- Где я достаю и свои монеты - на толкучке. Надобно только не щадить труда, надо все исследовать: погреба, подвалы. Видишь ли, когда умирает какой-нибудь знатный вельможа, державший только ради моды библиотеку или какую-нибудь коллекцию, то лакейство крадет из всего этого, что только можно, и продает за бесценок стоившее больших денег. Все это попадает на толкучку. Я туда делаю еженедельный набег. Толкучка неистощима, потому что воровство никогда не прекращается.
И действительно, десять лет спустя, один молодой гвардейский офицер, любитель картин, купил на толкучке, большую надвое распиленную картину Гольбейна, восстановил ее и отказался продать за 40000 Франков Людовику Филиппу, который именно в то время собирал произведения Гольбейна и посылал нарочного удостовериться в ее подлинности. Она представляла Поклонение Волхвов, сопровождаемых многочисленной свитой; фигуры в 1/4 натуральной величины. Весь Петербург бросился смотреть картину. Имя счастливца Ладевицкий; в большом свете его называли le petit guerrier (Маленький воин). Через эту картину он попал ко двору великой княгини Елены Павловны.
Касательно обмена мыслей, Бартоломей был мне другом, но, в сущности, мы составляли положительную противоположность между собой. В музыке и поэзии он ничего не смыслил, не интересовался даже Бальзаком, бывшим тогда в такой моде, что можно было даже вместо: -Comment vous portez-vous? спросить: Avez-vous lu l'Histoire des treize (Как поживаете? Читали ли вы Историю тринадцати)?
Бартоломей говаривал: - Как получу наследство после матушки, сейчас же выхожу в отставку, переодеваюсь персидским нищим и пешком пойду чрез Ташкент и Персию в Индию. Вот там-то можно находить древние монеты! Когда ему доводилось идти в караул, он клал в карман сверток с Сассанидами со словами: - вот мой Бальзак, - отправлялся на свою 24 часовую службу. Он был мелочен по службе, но очень любим товарищами и умел сделать так, что они редко его посещали, чтобы не отнимать у него времени от занятий. Он мало спал и почти ничего не ел, но весь день напролет пил чай и курил. По ночам он рисовал на память развалины Персеполя и исправлял себя потом по Кер-Портеру. Он не посещали ни общества, ни театров.
В первый же день моего новоселья, около 4 часов, поднялся страшный шум на дворе дома, куда выходили наши окна. Громадное здание на четырех колесах, с исполинскими гербами на дверцах, в четыре лошади, с форейтором, кучером и лакеем в ливрее, с громом выкатилось из ворот.
- Grand'maman отправляется в Зимний дворец, - объяснил мне Жан: - она круглый год ежедневно ездит к министру двора (князю Волконскому) обедать. К 11 часам вечера за нею приезжает карета. Дождитесь бабушки, она это любит, она вам расскажет, что там было и кто там был. Но при этом вы должны только слушать, ничего не говорить и ни о чем не расспрашивать; она старого поколения и старого времени, когда молодые люди не смели разевать рот, для нее и министр внутренних дел, Перовский, молодой человек. Сего последнего вы увидите у нас, - он человек очень сведущий и в милости у князя.
Бартоломей говаривал: - Как получу наследство после матушки, сейчас же выхожу в отставку, переодеваюсь персидским нищим и пешком пойду чрез Ташкент и Персию в Индию. Вот там-то можно находить древние монеты! Когда ему доводилось идти в караул, он клал в карман сверток с Сассанидами со словами: - вот мой Бальзак, - отправлялся на свою 24 часовую службу. Он был мелочен по службе, но очень любим товарищами и умел сделать так, что они редко его посещали, чтобы не отнимать у него времени от занятий. Он мало спал и почти ничего не ел, но весь день напролет пил чай и курил. По ночам он рисовал на память развалины Персеполя и исправлял себя потом по Кер-Портеру. Он не посещали ни общества, ни театров.
В первый же день моего новоселья, около 4 часов, поднялся страшный шум на дворе дома, куда выходили наши окна. Громадное здание на четырех колесах, с исполинскими гербами на дверцах, в четыре лошади, с форейтором, кучером и лакеем в ливрее, с громом выкатилось из ворот.
- Grand'maman отправляется в Зимний дворец, - объяснил мне Жан: - она круглый год ежедневно ездит к министру двора (князю Волконскому) обедать. К 11 часам вечера за нею приезжает карета. Дождитесь бабушки, она это любит, она вам расскажет, что там было и кто там был. Но при этом вы должны только слушать, ничего не говорить и ни о чем не расспрашивать; она старого поколения и старого времени, когда молодые люди не смели разевать рот, для нее и министр внутренних дел, Перовский, молодой человек. Сего последнего вы увидите у нас, - он человек очень сведущий и в милости у князя.
Бартоломей отправился в караул, я остался один. - Пора бы пообедать, - подумал я, и скромно осведомился на счет обеда у горничных, старшая из которых дежурила по ночам у графини, когда та страдала бессонницей. Ответ был: - У нас на кухне никогда не разводят огня, ставят только самовар, - мы никогда не обедаем, мы покупаем себе поесть в лавке. Молодой барин тоже посылает за обедом - ему все равно.
Графиня возвращалась ровно в 11 часов. Лакей нес за нею сверток с придворными конфетами, который она аккуратно каждый раз брала от десерта и которые на другое утро подавались к чаю. Этими отличными конфетами можно было заморить червячка до обеда.
Настала для меня своеобразная, тихая-тихая жизнь. По вечерам можно было чуять веяние вечности! Я чувствовал себя как в птичьем гнезде, в самой трущобе леса, называемого Петербургом.
- Пора тебе представляться! - сказала добродушная старушка. Я говорила о тебе с Грегуаром (Волконский, Григорий Петрович). Грегуар был сын министра двора, только что возвратившийся лауреатом из Парижского университета, отличный баритон и человек в высшей степени любезный. Впоследствии он был очень любим, в должности попечителя Петербургского университета.
С ним я тотчас же сошелся: это был человек по мне. Он явился ко мне сам, совершенно по-парижски и объявил мне напрямик:
- Я введу вас только в два дома, где я свой человек и где вы можете быть уверены в отличном приеме: к князю Одоевскому, писателю, и к почт-директору Булгакову (Константин Яковлевич). У Одоевского вы найдете литераторов из высшего круга и также Блудова (Дмитрий Николаевич); с ним не мешает познакомиться. У Булгакова вы встретите министров и дипломатов; даже отец мой, который ни у кого не бывает, посещает его. Вы вероятно уже слышали от ваших близких, что отец мой неразлучен с Государем, - ему я не смею никого представлять.
Григорий Волконский (Князь Григорий Петрович Волконский, в должности гофмейстера, женат был на дочери шефа жандармов графине Марии Александровне Бенкендорф) занимал маленькую антресоль в коридоре Зимнего дворца, ведущем в помещение гофмейстера, в непосредственном соседстве с Государем.
Григорий Волконский (Князь Григорий Петрович Волконский, в должности гофмейстера, женат был на дочери шефа жандармов графине Марии Александровне Бенкендорф) занимал маленькую антресоль в коридоре Зимнего дворца, ведущем в помещение гофмейстера, в непосредственном соседстве с Государем.
В этой антресоли мы много занимались музыкой. Известная витая лестница, со стороны Невской набережной, на пути в Фельдмаршальскую залу, вела также и к министру двора, который занимал всего три комнаты, но в каком соседстве! Накануне нового года, в те времена, каждый имел право являться без билета в Зимний дворец на маскарад, состоявший в том, что весь двор, одетый в домино, совершал процессии чрез все покои дворца. Двор ужинал в театре Эрмитажа. Народу во дворце собиралось несколько тысяч, в том числе немало бараньих тулупов. Все залы, все комнаты были битком набиты людьми из всех сословий. И над всей этой массой высилась высокая фигура, императора Николая, в треугольной шляпе с развевающимися перьями.
Князь Григорий Волконский был так добр, что взялся показать мне этот ужин. Сделать это мог только он, да и то директор Эрмитажа Лабанский (?) чуть не преградил нам доступа. Освещение театра было по истине волшебное. От этого народного праздника, не имевшего ничего себе подобного при других Европейских дворах, до такой степени портилась мебель, подымалась такая пыль по всему необъятному зданию, что он был отменен с 1 января 1835 года.
Князь Григорий Волконский был так добр, что взялся показать мне этот ужин. Сделать это мог только он, да и то директор Эрмитажа Лабанский (?) чуть не преградил нам доступа. Освещение театра было по истине волшебное. От этого народного праздника, не имевшего ничего себе подобного при других Европейских дворах, до такой степени портилась мебель, подымалась такая пыль по всему необъятному зданию, что он был отменен с 1 января 1835 года.
Расскажу замечательный случай, связанный с воспоминанием об этом празднике. При Александре I-м вошло в обычай спрашивать у первого, кто входил во дворец, и у последнего, кто его покидал, имена их и на другое утро докладывать о них Государю. Один начальник отделения Военного Министерства, состоявшего под управлением всемогущего Аракчеева, никогда еще не бывал ни в маскараде, ни в театре, всю жизнь он ложился в 10 часов вечера и вставал с солнцем. Сестра его жены приезжает из провинции, и обе дамы решают, что старик должен ехать с ними в маскарад. На свое несчастье он соглашается. Он не знал, что такое выходить из дому, или возвращаться в 11 часов.
В огромном нижнем этаже дворца, в некоторых проходных комнатах есть маленькие, неосвещенные кабинетцы, снабженные креслами. Этот господин юркнул в один из таких закоулков, сказав своим дамам, чтоб они следовали за толпой, совершили бы своей маскарадный обход и потом пришли за ним. Но этого им не удалось исполнить: кабинетцев множество, занавески их опущены, давка страшная. Дамы в отчаянии отправляются домой, старика же утром будят полотеры. Он ушел последним, но и прибыл первым, в надежде поскорее отделаться. Проходит год.
Аракчеев делает представление к наградам. Его лучший работник, наш начальник отделения, тоже не забыт. Представление Государь утверждает, вычеркивая одного начальника отделения. Аракчеев решается замолвить за него слово, но Государь прерывает его: - Вы ничего не знаете: этот чиновник посещает все маскарады; он первый появляется и последний уезжает - это уж не работник! Никакие доводы не действовали: старику пришлось выйти в отставку. А он только и покидал свою квартиру, чтобы идти в канцелярию, где и был первым и последним.
Так рассказывал мне этот анекдот обер-шенк граф Вельегорский и при этом прибавил: - Я тебе вот что скажу: ты, мне кажешься именно таким человеком, что способен как раз попасть в беду. Граф, по русскому обычаю, говорил мне ты, из снисходительной дружбы.
В 1833 г. князь Владимир Одоевский, уже известный писатель, принимал у себя каждую субботу после театра. Придти к нему прежде 11 часов было рано. Он занимал в Машковом переулке (на углу Большой Миллионной) скромный флигилек, но, тем не менее у него все было на большую ногу, все внушительно. Общество проводило вечер в двух маленьких комнатках и только к концу переходило в верхний этаж, в львиную пещеру, то есть в пространную библиотеку князя.
Так рассказывал мне этот анекдот обер-шенк граф Вельегорский и при этом прибавил: - Я тебе вот что скажу: ты, мне кажешься именно таким человеком, что способен как раз попасть в беду. Граф, по русскому обычаю, говорил мне ты, из снисходительной дружбы.
В 1833 г. князь Владимир Одоевский, уже известный писатель, принимал у себя каждую субботу после театра. Придти к нему прежде 11 часов было рано. Он занимал в Машковом переулке (на углу Большой Миллионной) скромный флигилек, но, тем не менее у него все было на большую ногу, все внушительно. Общество проводило вечер в двух маленьких комнатках и только к концу переходило в верхний этаж, в львиную пещеру, то есть в пространную библиотеку князя.
Княгиня, величественно восседая перед большим серебряным самоваром, сама разливала чай, тогда как в других домах его разносили лакеи совсем уже готовый. Ее называли la belle Creole (прекрасная Креолка), так как она цветом лица похожа была на Креолку и некогда славилась красотой. Она была сестра сенатора Ланского, бывшего впоследствии министром.
У Одоевского часто бывали Пушкин, Жуковский, поэт князь Вяземский, драматург князь Шаховской, в насмешку называвшийся le pere dela comedie (отец комедии), далее Замятин (будущий министр юстиции), Блудов, молодые члены французского посольства.
Из дам особенно обращали на себя внимание красавица Замятина, графиня Лаваль старая и страшно безобразная, и нетерпящая света княгиня Голицына, Princesse Nocturne (Ночная Княгиня), как ее называли, потому что она обращала ночь в день и вставала не раньше полуночи. Она носила всегда платья резких цветов, слыла ученой и, говорят, вела переписку с Парижскими академиками по математическим вопросам. Мне она казалась просто скучным синим чулком.
У Одоевского часто бывали Пушкин, Жуковский, поэт князь Вяземский, драматург князь Шаховской, в насмешку называвшийся le pere dela comedie (отец комедии), далее Замятин (будущий министр юстиции), Блудов, молодые члены французского посольства.
Из дам особенно обращали на себя внимание красавица Замятина, графиня Лаваль старая и страшно безобразная, и нетерпящая света княгиня Голицына, Princesse Nocturne (Ночная Княгиня), как ее называли, потому что она обращала ночь в день и вставала не раньше полуночи. Она носила всегда платья резких цветов, слыла ученой и, говорят, вела переписку с Парижскими академиками по математическим вопросам. Мне она казалась просто скучным синим чулком.
Во время пребывания Бальзака в Петербурге в 1845 году, она, не будучи с ним знакома, послала за ним в полночь карету с приглашением к себе. Я случайно находился в то время у Бальзака, который очень этим оскорбился, и я всеми силами старался успокоить его, поставляя ему на вид все странности старухи. Бальзак написал ей: У нас, милостивая государыня, посылают только за врачами, да и то за теми, с которыми знакомы. Я не врач. Подпись, и ничего более.
В негодовании Бальзак ударял кулаком по столу и восклицал: Чего мне еще после этого ждать впереди!
У князя Одоевского я встретился с земляком фон Вегезаком, рижским уроженцем, которого за его наружность называли бароном. Он служил под начальством Лаваля в Министерстве иностранных Дел и впоследствии был министром - резидентом в Ганзейских городах.
Тут можно было встретить также Дантеса, красивого кавалергардского офицера, от руки которого впоследствии пал Пушкин. Гордый своими успехами между дамами, он был воплощенная спесь. Гораздо скромнее и проще держал себя молодой римлянин, друг Григория Волконского, учитель пения, Чиабатта, ослепительной красоты Антиноева голова. Он женился на богачке и потерялся для нас во внутренних губерниях Империи. По красоте Дантес не мог идти в сравнение с Чиабаттой, но он носил мундир, а мундир надо всем брал тогда верх!
Однажды вечером, в ноябре 1833 г., я пришел к Одоевскому слишком рано. Княгиня была одна и величественно восседала перед своим самоваром; разговор не клеился. В этом доме человечество подразделялось на князя, княгиню, княжну и за тем уже остальное человечество. Вдруг, - никогда этого не забуду, входит стройная дама, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал incessu dea patebat (Когда она появлялась, то казалось, что видишь богиню)! Благородные, античные черты ее лица напоминали мне Эвтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком. Князь Григорий, подойдя ко мне, шепнул на ухо:
В негодовании Бальзак ударял кулаком по столу и восклицал: Чего мне еще после этого ждать впереди!
У князя Одоевского я встретился с земляком фон Вегезаком, рижским уроженцем, которого за его наружность называли бароном. Он служил под начальством Лаваля в Министерстве иностранных Дел и впоследствии был министром - резидентом в Ганзейских городах.
Тут можно было встретить также Дантеса, красивого кавалергардского офицера, от руки которого впоследствии пал Пушкин. Гордый своими успехами между дамами, он был воплощенная спесь. Гораздо скромнее и проще держал себя молодой римлянин, друг Григория Волконского, учитель пения, Чиабатта, ослепительной красоты Антиноева голова. Он женился на богачке и потерялся для нас во внутренних губерниях Империи. По красоте Дантес не мог идти в сравнение с Чиабаттой, но он носил мундир, а мундир надо всем брал тогда верх!
Однажды вечером, в ноябре 1833 г., я пришел к Одоевскому слишком рано. Княгиня была одна и величественно восседала перед своим самоваром; разговор не клеился. В этом доме человечество подразделялось на князя, княгиню, княжну и за тем уже остальное человечество. Вдруг, - никогда этого не забуду, входит стройная дама, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал incessu dea patebat (Когда она появлялась, то казалось, что видишь богиню)! Благородные, античные черты ее лица напоминали мне Эвтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком. Князь Григорий, подойдя ко мне, шепнул на ухо:
- Не годится слишком на нее засматриваться.
В этом доме не существовало общего всем другим домам и всегда тягостного обычая представлять гостей друг другу. Раз, введенный сюда считался как бы знакомым со всеми и так и держал себя. Это весьма удобно. Уходят, не прощаясь, и входят с легким поклоном, как будто виделись 10 минут тому назад. Мне захотелось посидеть, по крайней мере, около Пушкина. Я собрался с духом и сел около него. К моему удивлению, он заговорил со мной очень ласково: должно быть был в хорошем расположении духа. "Фантастические сказки" Гофмана в это самое время были переведены в Париже на французский язык и, благодаря этому обстоятельству, сделались известны в Петербурге. Тут во всем главную роль играл Париж. Пушкин только и говорил что про Гофмана; недаром же он и написал "Пиковую Даму" в подражание Гофману, но в более изящном вкусе.
В этом доме не существовало общего всем другим домам и всегда тягостного обычая представлять гостей друг другу. Раз, введенный сюда считался как бы знакомым со всеми и так и держал себя. Это весьма удобно. Уходят, не прощаясь, и входят с легким поклоном, как будто виделись 10 минут тому назад. Мне захотелось посидеть, по крайней мере, около Пушкина. Я собрался с духом и сел около него. К моему удивлению, он заговорил со мной очень ласково: должно быть был в хорошем расположении духа. "Фантастические сказки" Гофмана в это самое время были переведены в Париже на французский язык и, благодаря этому обстоятельству, сделались известны в Петербурге. Тут во всем главную роль играл Париж. Пушкин только и говорил что про Гофмана; недаром же он и написал "Пиковую Даму" в подражание Гофману, но в более изящном вкусе.
Гофмана я знал наизусть; ведь мы в Риге, в счастливые юношеские годы, почти молились на него. Наш разговор был оживлен и продолжался долго; я был в ударе и чувствовал, что говорил как книга.
- Одоевский пишет тоже "Фантастические пьесы", - сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно: Sa pensee malheureusement n'a pas de sexe (К несчастью, мысль его не имеет пола), и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов: такова была его манера улыбаться.
- Что такое вы сказали? - спросил меня князь Григорий, - чему он засмеялся?
Слова, сказанные мною, впоследствии распространились в публике, я должен был бы сказать себе: si tacuisses, philosophus mansisses (Если бы смолчал, остался бы философом), но я был молод.
- Что такое вы сказали? - спросил меня князь Григорий, - чему он засмеялся?
Слова, сказанные мною, впоследствии распространились в публике, я должен был бы сказать себе: si tacuisses, philosophus mansisses (Если бы смолчал, остался бы философом), но я был молод.
Наверху в библиотеке у Одоевского сидел худощавый господин, в черном фраке, застегнутый на все пуговицы, со звездой на каждой стороне груди. Я слышал от Бартоломея, что настоящая сторона для звезды левая, хотя бы их имелось и две. Черный господин напомнил мне Магнетизёра в Гофмане. Он рассуждал о полемике между Савиньи и Гансом по вопросу о posse-sio (владение), сделавшейся известною благодаря только что прибывшей из Парижа книге Лерминье: Introduction a l'histoire de droit (Введение в историю права), поверхностной, но написанной увлекательным слогом. И все же опять Париж!
Черный господин продолжал ораторствовать. Пушкин бросал на него нетерпеливые взгляды: ему очевидно все это страшно надоело. Я испросил себе слова, только потому (как я скромно прибавил) что слушал в Берлине лекции Савиньи и Ганса. Я попал в свою сферу и изложил дело ясно и доступно всем, что не составляет большой заслуги для студента Дерптского университета. Черный господин поднялся с места и прямо подошел ко мне. - Я принимаю по четвергам, - сказал он, и буду очень рад видеть вас у себя. Я Дегай (Павел Иванович).
Это приглашение имело для меня важные последствия. До сих пор тяжба моя заставляла меня не раз понапрасну стучаться у дверей его, он оставался для меня невидимкой, он, директор Министерства Юстиции. Дегай тотчас же определил меня на службу, что было моим самым горячим желанием, ибо Петербург мне полюбился.
Вакации никакой не было, и в строгом смысле слова нельзя сказать, чтоб я был определен к должности. Мне только поставили стул у стола регистратуры. Дегай занимал меня переводами на русский язык. Первой работой, которой он мне задал, был перевод последней главы Пандектов. Поводом к тому послужило то, что я неосторожно упомянул в его присутствии о надписи de regulis juris. Напрасно я, бедный, отказывался и уверял, что эту главу, именно эту главу, можно понимать тогда только, когда вполне овладеешь всей исполинской системой. Дегай никогда не отступался от своих приказаний, - труд был исполнен и оказался все-таки бесполезным, как и многое другое впоследствии.
Дегай жил в здании Министерства, обедал в два часа один и очень торопливо, чтобы успеть еще поработать до театра. Почти каждый день ко мне являлся лакей и звал меня к столу. Тут мне предстояло отвечать на множество разнообразнейших вопросов и вдобавок есть из почтительности. В Департаменте на это смотрели, как на начальническое покровительство, и это, в соединении с моей немецкой фамилией, делало меня окончательно ненавистным.
Как мне было быть? Жаловаться ему я не мог.
Позднее, когда, вследствие открывшейся вакации, я поступил в отделение, столоначальник Оппель, русский немец, ни слова не говоривший по-немецки, придирался ко мне при всяком случае и заставлял переписывать свои доклады, что мне очень приятно было, ибо сам я тогда еще не мог их составлять. Спустя несколько месяцев, директор сказал мне: Министр (Дашков Дмитрий Васильевич) благодарит вас, он сказал мне, что все доклады писаны одной рукой, и ни в одном из них нет ошибки, тогда как в других отдельных ошибки встречаются то и дело.
Приехал отец Бартоломея, и я должен был покинуть старую графиню. Я поселился в доме архитектора Висконти, ведшего свой род от знаменитых миланских Висконти. Граф Литта (Юлий Помпеевич) называл его кузеном и имел с ним один и тот же герб. Дом Висконти находился близ Школы Правоведения, и я занял в нем угловое помещение, которое прозвал полигоном.
Я простудился и несколько дней не мог ходить в Министерство. В одно прекрасное утро у моей постели очутился директор со связкою документов под мышкою, которую он мне и подал.
- Это вас вылечит, - сказал он. Мы получили из Общего Собрания Сената очень важное дело. Министр должен подать свое мнение. Дело поступило из Бессарабии и должно быть решено по действующему там Областному Уставу. Это немножко пахнет Римскими правом. Я рекомендовал министру для этой работы вас, но она должна быть окончена в два дня. Вот вам случай отличиться. По этому делу идут сильные происки, и надобно все держать в тайне. Подобный случай не представляется два раза.
Дело состояло в споре о наследстве и подходило под 116 новеллу кодекса Юстиниана, но было очень запутано. Тем не менее, решение его не представляло затруднений для юриста, ознакомившегося с Римским правом в Дерптском университете. Я изложил свое мнение в кратких словах, но не исчерпал всю суть, и на следующий день был позван к министру.
Он никогда не ездил в Сенат, в Государственный Совет редко, у себя в Министерстве мы его никогда не видывали. Невидимка был видим только для директора и вице-директора Веймарна. Он был слабого здоровья, но работал неутомимо и сам прочитывал каждую строку, что много значит. Это доказывалось тем, что мы находили в бумагах сделанные его рукою поправки самых ничтожных описок. Ясность мысли его вошла в пословицу; он был практически гений.
- Дашков, для нас существо высшего разряда, - сказал он мне коротко, - работа хороша: лет через десять вы обер-прокурор.
Дегай поступал со мной добросовестно. Он освободил меня от дежурства в Департаменте, где по ночам приходилось спать на столе, и зачислил в число дежурящих у министра, которые должны были находиться до полудня в комнате, соседней с его кабинетом. По его звонку надо было входить к нему, а также принимать знатных посетителей и докладывать о них. Он звонил редко, и знатных посетителей было мало, потому что он их не принимал. Делать было нечего, и можно было, запасшись книгою, спокойно предаваться этому приятному развлечению. Но однажды раздался такой трезвон, что у меня книга выпала из рук. Дашков был очень взволнован.
- Там, в Общем Собрании, они опять не соглашаются; я должен защищать свое мнение в Государственном Совете, но потерял нить моих доказательств. Принесите мне копию с моего предложения из отделения.
- Дашков, для нас существо высшего разряда, - сказал он мне коротко, - работа хороша: лет через десять вы обер-прокурор.
Дегай поступал со мной добросовестно. Он освободил меня от дежурства в Департаменте, где по ночам приходилось спать на столе, и зачислил в число дежурящих у министра, которые должны были находиться до полудня в комнате, соседней с его кабинетом. По его звонку надо было входить к нему, а также принимать знатных посетителей и докладывать о них. Он звонил редко, и знатных посетителей было мало, потому что он их не принимал. Делать было нечего, и можно было, запасшись книгою, спокойно предаваться этому приятному развлечению. Но однажды раздался такой трезвон, что у меня книга выпала из рук. Дашков был очень взволнован.
- Там, в Общем Собрании, они опять не соглашаются; я должен защищать свое мнение в Государственном Совете, но потерял нить моих доказательств. Принесите мне копию с моего предложения из отделения.
Но в отделении не было копии; они не догадались снять ее. Велико было отчаяние чиновников; они ходили как приговоренные к смерти. Дашков был вне себя.
- Так-то мне служат, таков-то у нас порядок! - кричал он и ударил чубуком, которого никогда не выпускал из рук, по своей конторке.
Я скромно спросил, могу ли сказать несколько слов. Он сделал сердитый, но утвердительный знак рукой. Я начал несколько дрожащим голосом, но скоро ободрился.
- Несколько недель тому назад, - сказал я, - был я дежурным в Департаменте для запечатывания и отправления исходящих бумаг. Ваши предложения Общему Собранию я при этом всегда читал для собственного своего назидания, а на те, о которых идет речь, даже обратил особое внимание. Я думаю, что могу ваши доказательства воспроизвести почти дословно. Дашков (незабвенный человек, которого мы все обожали) остался очень доволен и сказал:
- Я этого не забуду. Дегай прибавил: Теперь ваша карьера обеспечена. Вышло однако, иначе. Сперанский, герой дня, умер, и Государь назначил на его место во 2-е Отделение Собственной Канцелярии (в Свод, как тогда выражались) Дашкова.
- Несколько недель тому назад, - сказал я, - был я дежурным в Департаменте для запечатывания и отправления исходящих бумаг. Ваши предложения Общему Собранию я при этом всегда читал для собственного своего назидания, а на те, о которых идет речь, даже обратил особое внимание. Я думаю, что могу ваши доказательства воспроизвести почти дословно. Дашков (незабвенный человек, которого мы все обожали) остался очень доволен и сказал:
- Я этого не забуду. Дегай прибавил: Теперь ваша карьера обеспечена. Вышло однако, иначе. Сперанский, герой дня, умер, и Государь назначил на его место во 2-е Отделение Собственной Канцелярии (в Свод, как тогда выражались) Дашкова.
Дашков привык к сотрудничеству Дегая и решительным условием принятия этой должности поставил, чтобы при нем остался Дегай. Условий Николай Павлович, как известно, не любил. Кроме того существовало еще затруднение, что жив был Балугьянский, правая рука Сперанского, в должности директора Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии.
И все-таки Государь согласился. Именным указом Дегай был произведен в статс-секретари и возведен в должность директора Отделения, в тоже время были переведены туда два ничтожества, именно я и еще писец Дегая, который один только мог безошибочно переписывать его рунообразные рукописи. Затем, казалось бы, служба моя должна была подвигаться вперед на парах; но Дашков умер несколько месяцев спустя от маразма, потому что не делал никакого движения и слишком много работал. Место его заступил Блудов, он не был расположен к Дегаю и в течение 12-ти лет не дал нам написать ни строчки.
Нас как будто не существовало на свете, мы были, по меньшей мере, пятым колесом в колеснице. Когда умер Дегай, то и я, так сказать, был погребен вместе с ним. Меня отослали в министерство, откуда я прибыл, и министр юстиции, граф Панин, сунул меня в Главный Архив Сената. Там лежал я между мертвыми, представляя из себя архивную опись. Много лет спустя, я переместился с погребальной колесницы в более веселый экипаж, но и на нем далеко не уехал.
До Полтавы доедешь, до Киева не доедешь, говорит кучер в Тарантасе графа Сологуба.
Итак, косвенным образом я обязан князю Одоевскому, что поступил на службу. Его звали: lonmorancy russe (Русский Монморанси) по древности его рода. Он был ученый музыкант и в игре превосходил меня значительно. Музыка Баха была ему как своя. На Фильдов лад играл он превосходно, прямо читая ноты...
Директор Почтового Департамента, тайный советник Константин Булгаков, жил в бельэтаже почтового здания. Это был настоящий тип вельможи. Г-жа Булгакова, урожденная Варлам, молдаванка, умная и любезная светская дама, чуждая всякой спеси, часто говаривала:
- Не понимаю, за что моего мужа заставляют увязывать почтовые пакеты (ficeler des paquets). Впрочем, Государь имел в виду назначить Булгакова посланником в Вену на место Татищева (как я узнал гораздо позднее, но из верного источника). Должность Булгакова доставляла ему ежегодного дохода 100000 рублей асс., источником которого была подписка на иностранные газеты. До самой смерти Булгакова, помешавшей ему вступить на предназначаемое ему высокое дипломатическое поприще, этот доход принадлежал директорам почт, а потом перешел к правительству.
Булгаков принимал по понедельникам и четвергам после театра. Когда меня ввел туда Григорий Волконский, я, прежде всего, был поражен блестящим освещением: горели карселевые лампы на изящных подставках. В первой комнате, избраннейшее общество играло на бильярде, во второй в карты, в третьей г-жа Булгакова наилюбезнейшим образом занимала гостей, разумеется, предварительно ей представленных. Главными гостями дома были: граф Нессельроде, граф Киселев, Левашов, Михаил Вьельгорский, Воронцов-Дашков, Литта. Здесь можно было встретить также Дмитрия Львовича Нарышкина, обер-егермейстера, в коротких панталонах, в чулках и башмаках, с напудренными волосами, с Андреевской алмазной звездой на черном фраке, - живая картина придворного человека старого времени! Племянник его Кирилла Александрович, обер-гофмаршал, был, напротив того, представителем нового двора.
Нессельроде отличался малым ростом, но великим умом. Черты лица его были тонки, нос с заметным горбом, сквозь очки сверкали удивительные глаза. Не будучи ни горд, ни слишком прост в обращении, он вообще избегал всяких крайностей. Он мало говорил, но когда говорил, то всегда сдержанным, хриплым голосом, звук которого нельзя было забыть. Движения его были быстры и привлекательны. Если он переходил в другую комнату, то походка его едва была слышна, неожиданно он оказывался уже там и, казалось, скорее, скользил по полу, чем ходил. Его манеры были скорее немецкие, чем французские.
По-французски он говорил без аффектации и без особого ударения, как вообще говорят в Петербургском высшем обществе. О политике он поставлял себе за правило не заикаться. Не будучи знатоком в музыке, он ее любил.
Так однажды у графа Вьельгорского, своего короткого друга, после блистательного исполнения симфонии C-moll Бетховена, он, вскочив со стула, восторженно вскричал: - Этот Финал, - настоящее Боже царя храни!
Квартира канцлера в здании Главного Штаба была настоящий дипломатический городок, в котором он давал большие и малые дипломатические обеды. Иногда давались маленькие музыкальные вечера, на которых его племянница, прекрасная графиня Мария Нессельроде (впоследствии Калержи, потом супруга Варшавского Муханова) играла на рояле как настоящая виртуозка.
Я слишком 20 лет встречался с Нессельроде у Вьельгорского и наблюдал за ним с возрастающим интересом. Где бы он ни появлялся, всюду его встречали с сочувствием и уважением. В немногочисленном обществе он всегда носил темный фрак, с портретом Государя, украшенным алмазами, в петлице: это высшая награда после ордена Св. Андрея Первозванного. Нессельроде имел прекрасный крупный почерк. Он был, конечно, один из самых замечательных и дальновидных государственных людей Европы.
Он был против политики, которая повлекла за собою Крымскую войну. По окончании ее он подал в отставку, купил себе дом на Литейной и жил в нем в полном одиночестве до самой смерти, последовавшей несколько лет спустя.
Граф Воронцов-Дашков по своей прекрасной наружности был самым блестящим придворным кавалером того времени. Его называли вечным именинником вследствие всегдашнего веселого выражения его открытого, привлекательного лица. Он был богатый вельможа и, женившись на Александре Нарышкиной, дочери обер-гофмаршала, стал жить на очень большую ногу. Он имел внешность дипломата и сохранял таковую даже играя на бильярде. Он был посланником в Турине и участвовал в Веронском конгрессе. За экземпляр моей книги: Beethoven et ses trois styls (Бетховен и его три стиля) он прислал мне 500 рублей асс. при любезной записочке, намекавшей на наши бильярдный партии у Булгакова.
Здесь я считаю нужным сообщить одну черту его беспримерной деликатности. Летом 1834 г. я приехал в город на почтовых лошадях и, проезжая в 2 часа ночи мимо ресторации Леграна (впоследствии Дюсо), ощутил зверский аппетит. Видя в окнах свет, я взошел и заказал себе что-то. Некий господин, в одиночку забавлявшийся на бильярде, обратился ко мне с предложением, не сыграю ли я партии, пока мне готовят кушанье.
- Почему нет! отвечал я, не зная, что господин этот игрок по ремеслу, игрок, стало быть, самого худшего разряда. Сначала он маскировал свою игру, делал грубейшие ошибки, но в конце всегда выигрывал. Я проигрывал партию за партией и в заключение вечера остался ему должен 200 р. - Завтра я пришлю сюда деньги на имя Леграна, - сказал я.
- Хорошо, отвечал он, - меня зовут Долгушев. На другой день я послал к Леграну своего слугу, который принес мне подписанную квитанцию и мои деньги обратно. Деньги, по уверению Леграна, были уже заплачены и притом человеком, выдававшим себя за моего слугу.
Я рассказал о происшествии графу Вьельгорскому, который отвечал:
- Не я это сделал, да и не могу придумать, кто бы это мог быть. Я подумаю.
Прошел год. Однажды Воронцов пришел к своему другу, которого он звал просто по имени Мишель, я, по обыкновению, тоже был тут.
- Слушай, Воронцов, сказал граф, - я подозреваю, что ты это сделал.
- Очень просто, отвечал он, - я находился в соседней комнате, узнал его по голосу и подумал, что он, вероятно, не при деньгах. Что его обманули, это не подлежало сомнению, я оставался до конца игры и потом обделал все дело. Если б он пошел далее, то я вышел бы и запретил бы ему играть.
В наше время едва ли найдется человек, который захотел бы разыграть таким образом роль судьбы.
Графу Литте было около 70-ти лет, но в парике он казался не старше 50-ти. Он был исполинского роста и также толст, как Лаблаш, но более подвижен и с ног до головы вельможа. Он носил обыкновенно вицмундир с самыми старшими Русскими орденами. В день рождения Булгакова он явился в большой Владимирской ленте на белом жилете, что для меня было очень внушительно: я был ведь маленький чиновник, видавший в департаменте только ленточки. Литта имел обыкновение повторять каждое свое слово: bon jour, bon jour, oui, oui, и т. д. голосом, звук которого походил на звук органа, когда прижмешь педаль. Он достиг высших должностей, благодаря только долголетней службе.
Он был расположен ко мне и, встречаясь со мной на даче Булгакова, всегда предлагал довезти меня до города. Он обыкновенно молчал во все время пути. Около 4-х часов утра нам почти всегда приходилось проезжать по Троицкому мосту. Кому неизвестен величественный вид, который представляется с этого места в светлую летнюю ночь!
Однажды я увлекся красотою зрелища и заговорил с восторгом. - Tres-vrai, tres-vrai (Правда, правда), отвечал Литта своим звучным басом. Он был ревностный посетитель театров, и надо было видеть, как он аплодировал и вызывал актеров. Тут он был снисходителен. Стоило только сказать с некоторой выразительностью:
- Вот эту, хорошенькую-то надобно бы вызвать, - он непременно отвечал: tres-bien, tres-bien (Очень хорошо, очень хорошо), и она была вызываема.
В последнее время он был обер-камергером и по-русски назывался Юлием Помпеевичем, соединяя таким образом в одном своем лице Цезаря и Помпея. Он был вдовец и жил один, но роскошно, в доме своем на Английской набережной.
Странное явление среди этого общества представлял Норов (Абрам Сергеевич). Он издал Путешествие по Сицилии, за которое Смирдин заплатил ему большие деньги. За проектируемое путешествие в Палестину и Египет он, как сам мне рассказывал, заставил Смирдина заплатить себе вперед и с этими деньгами, да с выручкой от продажи своей библиотеки, отправился в путь.
- Завтра отправляюсь я в Триест и в Александрию, - сказал он мне. Вы не можете себе представить, как приятно мне, что я сегодня выиграл у вас на бильярде 200 р., это так кстати, знаете, когда отправляешься в путь. Путешествие его появилось действительно в свет. Археологическая часть его, как и в первом сочинении, была ничто иное, как компиляция, и я сам доставлял ему для этого английские сочинения из библиотеки Вьельгорского.
По возвращении своем Норов служил в Комиссии Прошений под начальством Лонгинова и, ко всеобщему изумлению, был скоро назначен министром народного просвещения.
Годы проходили своей однообразной чередой. В иностранном цензурном комитете открывалась вакация. Комитет этот принадлежал тогда к Министерству Народного Просвещения. Мои друзья пристали к Норову, чтобы он замолвил словечко за меня. Дело было облажено, в высшем утверждении нельзя было сомневаться.
Сижу я однажды вечером за чаем у графа Сумарокова, моего короткого приятеля по музыкальной части. Сумароков командовал гвардией и был членом Государственного Совета, где он имел сношения с Норовым и кроме того состоял с ним в родстве. Вдруг является Норов и говорит мне: Ах, mon cher! Ваше представление лежало у меня на столе, совсем готовое, через два дня все должно было кончиться, и вдруг письмо от ***, рекомендующее Тютчева. Вы понимаете (vous comprenez)?
- Да, мы понимаем, - прерывает его граф Сумароков, - мы понимаем.
Так близко от гавани, от надёжной анкерной стоянки, и вдруг опять в море неизвестности! Эта обманутая надежда имела на меня самое тяжелое действие. И странное дело! Когда я работал с Норовым в библиотеке Вьельгорского, он написал в моей памятной книжке:
Tu proverai come duro cale so pane altrui, il subir e scender per altrui scale (Ты испытаешь, каково есть чужой хлеб и обивать чужие пороги. Данте).
Это отлично применялось ко мне, в особенности будучи написано еще его рукою.
Граф Вьельгорский был так любим членами общества бильярдной игры, что лишь только он появлялся, его сейчас же окружали. Это случалось обыкновенно ночью после часу, так как он был постоянным посетителем вечеров Государыни. В виц мундире и белом галстуке (как того требовал придворный этикет) он был отменно моложав; я и теперь, 44 года спустя, не могу понять, как это он в то время был только камергером и имел всего одну Анненскую звезду. Но как шла к нему звезда!
Если Нессельроде еще не уходил, то он отводил его в сторону, вероятно, чтоб передать ему что говорилось при дворе. Если он приходил до начала бильярдной пульки, то шел в третью комнату к фортепьяно и спрашивал Булгакова: - Есть что нового? (Булгаков по своей должности почт-директора раньше всех получал всякую музыкальную новость, всякий оперный отрывок, вышедший в Париже или Германии). Булгаков брал меня тогда под руку и сажал за Тишнеровское фортепьяно.
- Ну, начинайте же! Прямо без приготовлений! говаривал в таких случаях Вьельгорский. Он подпевал, не имея голоса, конечно, но с необыкновенным вкусом. В последние годы царствования Александра I он впал в немилость и удалился на жительство в свое Курское имение, где соседом его была, князь Барятинский, отец нынешнего Фельдмаршала. Там они имели (как Вьельгорский часто мне рассказывал) зал для кегельной игры, освещавшуюся Аргентовскими лампами, и превосходный оркестр под управлением капельмейстера-немца.
Там он вник в самую сущность симфоний и нередко сам управлял оркестром.
Император Николай вызвал его к своей коронации в Москву и оказывал ему особое расположение. Граф был un foudre de guerre - отчаянная голова. Ставка бильярдной пульки состояла из полуимпериала. Граф носил золотые монеты в бумажном свертке, потому что терпеть не мог кошелька. Он играл лучше всех и с юношеским жаром. В молодости случилось ему провести с отцом и братьями два года в Риге. Собственно они хотели ехать за границу, но их задержала война. Они посещали в Риге дом Блаугерда, этот Капитолий квартета со знаменитым Фейге в качестве первой скрипки.
Лето жили они в Вейдендаме. Граф любил вспоминать об этом времени и в течение целой зимы называл меня постоянно Зоммером (Летом). Напрасно Булгаков замечал ему, что моя фамилия совсем другая.
- Он пианист, юрист и рижский уроженец, - говорил граф: - в Риге я провел прекрасное лето и по воспоминаю называю его так. Я был хорошо знаком с его семейством, танцевал со всеми его теперешними тетушками, а потому и хочу называть его покуда Зоммером. Такова была его манера; он всегда был немножко школьник, но с какими благородными приемами!
Бильярдные игроки, с Булгаковым во главе, были: граф Завадовский (впоследствии сенатор), полковник Маничаров, генерал Хомутов, командир лейб-гусарского полка, человек, для которого тоже не существовало старости, фон Гроте, впоследствии ландрат города Риги, один из приятнейших и наиболее искусных бильярдных игроков, барон Ренне из Курляндии, барон Икскюль, супруга которого, молдаванка, была другом г-жи Булгаковой, граф Александр Менгден из Лифляндии, почтовые чиновники Рубец и Пфеллер, Путята, впоследствии начальник кадетских корпусов.
Лето жили они в Вейдендаме. Граф любил вспоминать об этом времени и в течение целой зимы называл меня постоянно Зоммером (Летом). Напрасно Булгаков замечал ему, что моя фамилия совсем другая.
- Он пианист, юрист и рижский уроженец, - говорил граф: - в Риге я провел прекрасное лето и по воспоминаю называю его так. Я был хорошо знаком с его семейством, танцевал со всеми его теперешними тетушками, а потому и хочу называть его покуда Зоммером. Такова была его манера; он всегда был немножко школьник, но с какими благородными приемами!
Бильярдные игроки, с Булгаковым во главе, были: граф Завадовский (впоследствии сенатор), полковник Маничаров, генерал Хомутов, командир лейб-гусарского полка, человек, для которого тоже не существовало старости, фон Гроте, впоследствии ландрат города Риги, один из приятнейших и наиболее искусных бильярдных игроков, барон Ренне из Курляндии, барон Икскюль, супруга которого, молдаванка, была другом г-жи Булгаковой, граф Александр Менгден из Лифляндии, почтовые чиновники Рубец и Пфеллер, Путята, впоследствии начальник кадетских корпусов.
В качестве зрителей присоединялись к ним помощник почт-директора Прянишников, по смерти Булгакова заступивший его место, иногда молодой Вестман (почтовый цензор) и Цирлейн, начальник почтовой цензуры, находившийся по делам политическим в связи с Министерством Иностранных Дел. Бисмарк, в последний приезд свой в Петербург, посетили Вестмана, но застал дома одну только его жену, так как сам Вестман с 10 до 6 часов просиживал в Министерстве.
- К своему старому товарищу не поленюсь зайти и в другой раз, - сказали Бисмарк супруге Вестмана. Я находился тут же и сам это слышал. Для меня было полезно знакомство с Вестманом. Мы были друзья. Он заказывал мне статьи для газеты Le Nord, которую он собственно и основал.
У Булгакова играли не в очень большую и не в слишком малую игру, по три партии, из которых только первая была в 10 рублей. Граф Завадовский и фон Гроте были матадорами. Булгаков и Вьельгорский одни могли состязаться с ними. Маничаров был друг дома. Он, в качестве инженера путей сообщения, долго стоял в Риге и любил ее обывателей. Я его часто встречал в молодости моей: бывало, иду в гимназию, а он в это время выходит из цитадели. Он был очень стар и носил прозвище вечного полковника, потому что ему не везло по чинопроизводству. Бывает такое несчастное стечение обстоятельств! В конце концов, однако, он все-таки умер генерал-майором. Он был из лучших игроков, но никогда не выигрывал.
- К своему старому товарищу не поленюсь зайти и в другой раз, - сказали Бисмарк супруге Вестмана. Я находился тут же и сам это слышал. Для меня было полезно знакомство с Вестманом. Мы были друзья. Он заказывал мне статьи для газеты Le Nord, которую он собственно и основал.
У Булгакова играли не в очень большую и не в слишком малую игру, по три партии, из которых только первая была в 10 рублей. Граф Завадовский и фон Гроте были матадорами. Булгаков и Вьельгорский одни могли состязаться с ними. Маничаров был друг дома. Он, в качестве инженера путей сообщения, долго стоял в Риге и любил ее обывателей. Я его часто встречал в молодости моей: бывало, иду в гимназию, а он в это время выходит из цитадели. Он был очень стар и носил прозвище вечного полковника, потому что ему не везло по чинопроизводству. Бывает такое несчастное стечение обстоятельств! В конце концов, однако, он все-таки умер генерал-майором. Он был из лучших игроков, но никогда не выигрывал.
Булгаков не делал никакого различия между своими гостями. Только когда являлся министр двора, князь Волконский, то он встречал и провожал его с некоторою торжественностью. Странно было, что не показывался никогда министр почт князь А. Н. Голицын. Он был одним из самых высокопоставленных лиц при царском дворе, но в последние годы жизни он вдался в мистицизм и избегал общества.
Знаменитый портрет его в натуральную величину, писанный Брюлловым и теперь находящийся в Академии, увековечивает его. Вот прекрасная черта его характера. Он имел обыкновение рано утром выходить на прогулку в своем сером плаще. На дворцовой набережной он заметил какого-то человека, который несколько раз сходил по лестнице к Неве и наконец, остановился на последней ступеньке. Князь обратился к нему с вопросом, что он тут делает. Когда он услышал, что человек этот из крайней бедности думал утопиться, он приняли в нем участие и поместил у себя в доме. Не всякий мистик поступает так!
Я должен упомянуть здесь о замечательном вечере у князя Голицына, женатого на графине Аделаиде Строгановой. Я был приглашен чрез Булгакова. Вечери был замечателен, собственно великолепием помещения (в доме Строгонова, у Полицейского моста). Общество собралось небольшое, но ужин в громадной, двухэтажной зале, плафон которой украшала исполинских размеров картина, писанная Итальянским мастером, был великолепен. Ужинали на ломберных столах по четыре человека. Я сидел за одним столом с Вьельгорским, Булгаковым и Голицыным. Граф вдруг сказал:
- В этой зале следовало бы играть последний акт Донжуана! Действительно, зала, благодаря темной плафонной живописи погруженная в полумрак, который казался еще гуще от мерцания восковых свеч, производила впечатление чего-то трагического. Этого вечера я никогда не забуду. Вьельгорский выказал чрезвычайные технические познания, рассуждая о Моцарте, об этой bible musicale (музыкальная библия), как его друг Россини называл Донжуана.
Летом у Булгакова в те же дни собиралось то же общество на принадлежавшей ему большой даче на Аптекарском острову, против Каменного острова. В день его рождения танцевали, и он сам подавал тому примерь вальсом. Здесь я в первый раз увидал графиню Завадовскую (урожденную Влодек), которая слыла за первую красавицу при дворе, и действительно, она представляла собою роскошную фигуру Юноны. Надо было видеть ее в вальсе с Булгаковыми! Он был красивый мужчина в цвете лет, всегда в темно-синем фраке с металлическими пуговицами и с золотой звездой Белого Орла на груди.
Граф Завадовский казался мне очень симпатичным человеком, хотя и записался в денди немножко поздно. Он пригласил меня навещать его по утрам; хозяйства он не держал. Мой граф (Вьельгорский) сказал мне:
- Слушай, не ходи туда! Артистическая душа не может спокойно созерцать такую прекрасную женщину, я испытал это на себе.
Каждое 1-е июля весь Петербург устремлялся в Петергоф, большой сад которого очаровательно иллюминовали в честь Императрицы, и весь двор длинной вереницей линеек совершал процессию среди этого моря огней. На одном из этих диванов на колесах я увидел Пушкина, смотревшего угрюмо (1834). Он только-то получил звание камер-юнкера. Кроме членов двора никто не имел права на место в линейках. Может быть, ему не нравилось это.
В Петергофе показали мне новый указ о разрядах в гражданской службе, по которому всякий имел право держать экзамен в университете, хотя бы он в нем и не учился. Это имело для меня большое значение в виду желания моего поступить на службу. На другой же день я вошел с прошением о допущении меня к экзамену к ректору Дюгурову, но получил отказ под предлогом, что для этого надобно уже состоять на службе.
Правда, что указ относительно этого пункта был неясен, но зато было очень ясно, что университет опасался лишиться студентов. Я вздумал явиться замаскированным на первом маскараде в Энгельгардовой зале, чтобы заговорить с министром народного просвещения. Вся haute volee посещала эти маскарады (Дворянского Собрания тогда еще не существовало).
Я следил за Уваровым, пока не увидел его одного; тогда я подошел и заговорил по-французски. (Я слышал, что он это любил, но лично я с ним не был знаком). Я произнес ему маленькую иеремиаду. Он милостиво выслушал мои жалобы и сказал:
- Я люблю дерптских студентов; приходите ко мне завтра.
Когда я явился, дежурный чиновник передал мне готовое письмо на имя ректора. Таким образом, дело было покончено. Правда, ректор сказал мне наилюбезнейшим образом:
- Вам не удастся выдержать экзамен; но на это я отвечал ему, что мои обстоятельства заставляют меня все-таки попытаться.
Профессор Римского права, Шнейдер, как он мне сам рассказывал впоследствии, когда, мы сделались Римскими друзьями, сказал ректору:
- Дайте этого господина мне, он у меня провалится; я не люблю учеников Клоссиуса.
Я явился на экзамен с Эльзевировским Corpus juris в руках.
- Это к чему? резко отнесся ко мне Шнейдер; но, как серьезный ученый, более филолог, чем законовед Римского права, он не мог удержаться, чтоб не взять у меня книжки и не перелистать.
- Я знаю, чего вы ищете, - сказал я ему несколько вызывающим тоном, ибо мне все равно предстояло провалиться. - Вы хотите убедиться, действительно ли это издание принадлежишь к редчайшим; с намеренною опечаткою secundus pars, вместо secunda?
- Где вы это достали? спросил он почти любезно.
- В нашем семействе уже третье поколение юристов, - отвечал я; - мой дед сделал эту находку в Лейпциге. Эльзевир может в настоящую минуту послужить вам к тому, чтобы следить по нем, когда я буду приводить вам на память источники.
- Вот как! Ну, так прочтите мне на память 118 новеллу, - сказал насмешливо профессор. Я исполнил это без запинок, как будто песню спел. На 2-й главе он прервал меня и просил перейти к последней. Когда и это было исполнено, он сказал, обращаясь к прочим экзаменаторам:
- Экзамен выдержан. Как жаль, что наши студенты не находят времени на такое же изучение источников! Но мы с вами еще немножко позабавимся, милостивый государь; я желал бы видеть…
Мы забавлялись целых четыре часа. Между прочим, он предложил мне вопрос насчет внутренней системы Пандектов, которую открыл Блуме в Кенигсберге: открытие, стоящее открытия Америки. Я был в ударе и прочел целую лекцию. Экзаменатор только улыбался. Последовали быстрые, как молния, вопросы по различным частностям и такие же ответы на них - настоящая перестрелка. Воротясь вечером домой к кузену Бартоломею, я написал обо всем случившемся в Дерпт моему уважаемому учителю Клоссиусу. Он выразил мне в ответ свое удовольствие и советовал продолжать далее изучение источников. По другими предметам дело обошлось не хуже, и мне дали диплом действительного студента. Какое странное название!
Когда Дашков, к которому я поступил чрез посредство Дегая, отослал мой диплом в Сенат, то сей последний уничтожил мой 12 класс, дарованный мне honoris causa (ради почета), и едва ли без задней мысли. Если бы я до экзамена состоял на службе, то (как объяснил мне декан университета Бутырский) получил бы диплом кандидата и все было бы в должном порядке. Сенат был прав, отменяя мой чин: в силу указа мой диплом давал мне право на службу по первому разряду.
Год спустя, я был действительно определен на службу. Я выдержал экзамен на кандидата, на следующий год на магистра. Это было дело нелегкое: весь Свод Законов ополчился против меня. Господа профессоры-студенты (как их называли в Дерпте), из которых Сперанский, следуя совершенно здравой идее, намеревался образовать рассадник профессоров, поступили в университеты, и каждый занял кафедру какого-нибудь специального отдела Свода. Сколько отделов, столько экзаменов; а экзаменаторы не очень-то любили Дерптских студентов. Они были строги, но непридирчивы.
Год спустя, я был действительно определен на службу. Я выдержал экзамен на кандидата, на следующий год на магистра. Это было дело нелегкое: весь Свод Законов ополчился против меня. Господа профессоры-студенты (как их называли в Дерпте), из которых Сперанский, следуя совершенно здравой идее, намеревался образовать рассадник профессоров, поступили в университеты, и каждый занял кафедру какого-нибудь специального отдела Свода. Сколько отделов, столько экзаменов; а экзаменаторы не очень-то любили Дерптских студентов. Они были строги, но непридирчивы.
На первый раз я подвергся со стороны благодушного барона Врангеля (профессора Русского законодательства) не придиркам, но, по выражению студентов, пытке. По выдержании экзамена на магистра я должен был, в квартире декана Ивановского, в высшей степени почтенного ученого, отвечать на предложенные мне вопросы по-латыни (какая радость!), и притом на его глазах, за тем же столом, за которым и он работал. Я исписал несколько листов; вопросы были предложены Шнейдером на отличном Римском языке (мы у Клоссиуса привыкли делать различие между Римским и Латинским языками). Я разгорячился и едва мог положить границы своей плодовитости.
Вечером, проезжая мимо модной ресторации Кулона (ныне гостиница Европа), я почувствовал страшный аппетит. Зала была пуста и освещена только вполовину. Какая-то длинная фигура, казалось, спала у маленького круглого столика.
В восторге от своего успеха, я живо распорядился тремя холодными рябчиками, одним глотком осушил бутылку шипучки и приказал подать еще рябчиков. Фигура поднялась, подошла к моему столу и сказала на чистом французском языке:
- Позвольте мне присесть к вам; я в жизнь мою не видал, чтобы так ели. Что, здесь все так едят? Я сегодня только из Парижа; мое имя Франсуа Сервэ.
Я себя не назвал: я ведь был ничто, а Сервэ же был первый виолончелист в Европе.
- Позвольте мне присесть к вам; я в жизнь мою не видал, чтобы так ели. Что, здесь все так едят? Я сегодня только из Парижа; мое имя Франсуа Сервэ.
Я себя не назвал: я ведь был ничто, а Сервэ же был первый виолончелист в Европе.
На следующее утро Сервэ приходит к графами Вьельгорским и рассказывает, как он встретили в своей гостинице господина, который изумительно пожирал рябчиков. Мы знаем его, отвечали графы, - он в 10 ч. обедал и потом выдержал экзамен, он сейчас придет, он ходит нам каждый день.
Когда я пришел, Сервэ встал и произнес ко всеобщему смеху: Premiere fourchette de l'Europe, je vous salue! (Первая вилка в Европе, приветствую вас).
Сервэ имел в своем распоряжении совершенно особый лексикон. Он говорил например: Mou nouveau morceau souleve le peuple (моя новая пиэса бунтует народ), или: je vais incendier la ville par mon premier concert (я спалю город моим первым концертом). Это был Лист виолончели.
Успех Сервэ был баснословен. Граф сейчас же представил его Императрице и подарил ему для первого концерта инструмент лучший в целом мире. Он ведь всегда был донельзя щедр.
- Как понравился вам инструмент? спросил я Сервэ.
- Je suis tombe en arret (я сделал перед ним стойку).
Летом 1834 г. графы Вьельгорские наняли на островах дачу Кочубея. (В следующие за тем годы они постоянно жили при дворе: весной в Царском Селе, летом в Петергофе, осенью в Гатчине). Балкон дачи выходил на усаженное березами шоссе, которое вело от Каменно-островского моста вдоль реки к г. Елагину. Здесь я увидел картину, выступавшую из пределов действительности и возможную разве в Обероне Виланда.
Когда я пришел, Сервэ встал и произнес ко всеобщему смеху: Premiere fourchette de l'Europe, je vous salue! (Первая вилка в Европе, приветствую вас).
Сервэ имел в своем распоряжении совершенно особый лексикон. Он говорил например: Mou nouveau morceau souleve le peuple (моя новая пиэса бунтует народ), или: je vais incendier la ville par mon premier concert (я спалю город моим первым концертом). Это был Лист виолончели.
Успех Сервэ был баснословен. Граф сейчас же представил его Императрице и подарил ему для первого концерта инструмент лучший в целом мире. Он ведь всегда был донельзя щедр.
- Как понравился вам инструмент? спросил я Сервэ.
- Je suis tombe en arret (я сделал перед ним стойку).
Летом 1834 г. графы Вьельгорские наняли на островах дачу Кочубея. (В следующие за тем годы они постоянно жили при дворе: весной в Царском Селе, летом в Петергофе, осенью в Гатчине). Балкон дачи выходил на усаженное березами шоссе, которое вело от Каменно-островского моста вдоль реки к г. Елагину. Здесь я увидел картину, выступавшую из пределов действительности и возможную разве в Обероне Виланда.
Блудов, доставил нам аранжированный для фортепьяно отрывок, из оперы "Гугеноты", тогда еще неизвестной. Графы созвали комитет из своих, музыкальных друзей, чтобы познакомить их этой оперой. Пришел и Нессельроде и был так оживлен, и молод, что даже участвовал в хорах. Маленькое общество было очень весело, в среде его господствовала совершенная простота. Нессельроде, однако, не остался обедать.
- Мне надо отправить курьера, - сказал он и исчез в своем легком, летнем пальто и летней циммермановской шляпе, на великолепную дачу свою, находившуюся недалеко. После обеда доложили, что две дамы, приехавшие верхами, желают поговорить с графами.
- Знаю, - весело сказал Вьельгорский, - они мне обещали заехать, - и взял меня с собою на балкон. На высоком коне, который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытом землю, грациозно покачивалась несравненная красавица, жена Пушкина; с нею были ее сестра и Дантес. Граф стал усердно приглашать их войти.
- Некогда! был ответ. Прекрасная женщина хлыстнула по лошади, и маленькая кавалькада галопом скрылась за березами аллеи. Это было словно какое-то идеальное видение!
Той же аллеей, зимой 1837 года, Пушкину суждено было отправляться на дуэль с Дантесом.
Поприще Дантеса было блистательно и кратковременно. Он и некий маркиз (Даршиак), оба отставные офицеры французской службы, прибыли в Петербург без всяких средств и покровительства. Они были знакомы с одним только батальным живописцем Ладюрнером, и это знакомство приобрели в гостинице за общим столом, чему я сам был случайным свидетелем.
Тогда Дантес вел еще себя скромно. Ладюрнер был прекрасный, откровенный и простой, но несколько суровый человек.
Той же аллеей, зимой 1837 года, Пушкину суждено было отправляться на дуэль с Дантесом.
Поприще Дантеса было блистательно и кратковременно. Он и некий маркиз (Даршиак), оба отставные офицеры французской службы, прибыли в Петербург без всяких средств и покровительства. Они были знакомы с одним только батальным живописцем Ладюрнером, и это знакомство приобрели в гостинице за общим столом, чему я сам был случайным свидетелем.
Тогда Дантес вел еще себя скромно. Ладюрнер был прекрасный, откровенный и простой, но несколько суровый человек.
В то время еще строился Исаакиевский собор под руководством архитектора Монферрана. Государь приказал построить Ладюрнеру, внутри деревянной изгороди, окружавшей собор, маленький домик, одна стена которого была вся стеклянная. Там работал Ладюрнер, и там нередко посещал его Государь.
Сидел с ним, рассматривал его работы, заказывал ему новые картины военного содержания, парады, маневры с портретными фигурами и т. п., и тут-то встретил он однажды Дантеса с его товарищем (Рассказывают, что, зайдя к Ладюрнеру, Государь увидал у него множество карикатурных рисунков, изображавших Людовика Филиппа. Государь забавлялся их рассматриванием и узнал от Ладюрнера, что они дело рук некоего молодого человека, пострадавшего за свою приверженность к герцогине Беррийской, т. е. Дантеса: он сопровождал ее за Пиренеи. Государь приказал представить Дантеса себе, и судьба его обеспечилась).
Оба вышли в отставку, потому что не хотели служить Людовику Филиппу, и это обстоятельство, благодаря тогдашним натянутым отношениям к Франции, послужило в пользу обоим молодым людям. Дантес был красивый молодой человек, маркиз маленького роста и с незначительным лицом. Государь предложил им вступить в Русскую службу. Дантес поступил на счет Императора в Кавалергардский полк, - очень важный шаг вперед; маркиз в армейский полк, стоявший в Ямбурге.
Вскоре, неизвестно по каким причинам, голландский посланник, барон Геккерен, усыновил Дантеса и объявил его своим наследником. Дантес возымел успех в обществе; дамы вырывали его одна у другой. В доме Пушкина он очутился своим человеком.
Геккерен был человек злого нрава; он писал оскорбительные, анонимные письма Пушкину и распространял их между публикой. Пушкин счел себя обязанным вызвать Дантеса на дуэль и, как известно, был им убит.
Пушкин умер в доме княгини Волконской, супруги министра двора, находившемся у Конюшенного моста. Весь город как будто оделся в траур: перестали посещать театры; густые, безмолвные толпы простонародья благоговейно вступали в печальный дом, где лежало тело Пушкина. Величие смерти отражалось в умных чертах благородного поэта. Похороны его были народным событием. Невский проспект, вплоть до Аничкова моста был битком набит публикой, состоявшей из всех классов общества, так что едва оставалось место для проезда погребальных дрог и бесчисленных карет, сопровождавших печальный поезд.
Зимою 1834 г. я узнал, что в Петербурге можно быть министром и все-таки не существовать на свете. На Большой Морской жил министр народного просвещения, адмирал Шишков, принимавший у себя по воскресеньям. Старый моряк знал только своих карточных партнеров; жена же его разыгрывала роль любезной хозяйки. Гости не обращали внимания на хозяина и только в первый раз были ему представляемы.
Это была словно голубятня: туда влетали и оттуда вылетали, не зная зачем. Общество состояло по преимуществу из знатных поляков, состав которых часто менялся. Вывали танцы под звуки фортепьяно. Некто Скипор, потомок древней польской фамилии, представлял собою тип механического, в поте лица трудящегося танцора.
Я как теперь вижу вытаращенные глаза польской княгини, всегда висевшей на его руке. Их можно было встретить на всех публичных балах. Длинная фигура Скипора, окруженная его земляками, неизменно торчала на Невском проспекте в часы прогулок. Проспект в то время сохранял еще свою двойную аллею тщательно подстриженных средней величины лип, шедшую до самого Аничкова моста. Она имела красивый вид и осенью, когда спадала листва, представляла прогулку, располагавшую к мечтательности.
Место Шишкова заступил Уваров, и настал день после Киммерийской ночи.
Любопытное лицо был Сергей Васильевич Салтыков, живший в собственном доме на Малой Морской и не пускавший к себе никаких жильцов. Всю зиму напролет у него собиралось по вторникам высшее общество на танцевальные вечера, причем имелся маленький бальный оркестр. Салтыков принадлежал к древнему боярскому роду: жена его была урожденная тоже Салтыкова. Есть также графы, носящие эту фамилию; но не имевший титула Салтыков был старший в роду. Свои вторники он называл "Les Mardis europeens".
Он был страшный болтун, но образован и полон познаний. Его значительная библиотека заключала в себе величайшие редкости, например "Записки" ювелиров братьев Бемов по поводу ожерелья королевы Марш Антуанетты, с раскрашенным рисунком ожерелья в его натуральной величине, с описанием всех его больших, приобретших историческую известность алмазов. Салтыков не позволял никому читать даже на переплетах заглавия его книг. Если называли при нем какую-нибудь книгу, он сам выносил ее и говорил: - У меня все есть.
Он имел наружность придворного, рост несколько меньше среднего и широкие плечи. Он опускал свою выразительную голову так низко, что казался горбатым, чего, однако вовсе не было. В этом положении он как будто искал чего-то на полу. Такие оригиналы, как он, в настоящее время невозможны. Он пресерьезно рассказывал истории, в которые сам не верил, и сочинял для собственного своего обихода Русскую историю, ссылаясь на которую, рассуждал об исторических фактах так, что слушатель недоумевал, ужели он находится в знатном доме, в собеседничестве с умным человеком, а не с сумасшедшим.
Граф Бенкендорф, нанимавший квартиру близ Салтыкова (как мне неоднократно рассказывал сей последний, имевший обыкновение повторять себя), сказал будто бы ему раз:
- Пока я живу возле вас, вы можете быть покойны.
Показаться на улице раньше 8 часов пополудни Салтыков считал ниже своего достоинства. Ровно в 4 часа он ежедневно являлся в книжный магазин Белизара (теперь Дюфура), что у Полицейского моста и, не снимая шляпы, осматривал все книги, хотя они за один день и не могли перемениться, в течение двух часов, стоя, перелистывая он их, никому не кланялся, лишь слегка кивнет головой на поклон знакомого или протянет один палец, если знакомый принадлежал к высшему обществу. Затем он отбирал себе целую груду книг и тут же платил за них наличными.
Ровно в 6 часов он возвращался пешком домой, пробегал мелкими, звонкими шагами по первой комнате, в которой был уже накрыт стол, и входил еще со шляпой на голове, в каминную, смежную с библиотекой. Во второй комнате, очень уютной, с постоянно горевшим мраморным прекрасным камином, проводили дообеденное время его жена, дочери, сыновья и гости. Немногие приходили без приглашения, боясь злого хозяйского языка и его исторических откровений, а приглашать Салтыков не имел обыкновения.
У первого окна в каминной стоял, собственно для него одного, столик с микроскопическими сандвичами и целой батареей водок на тяжелом серебряном подносе. Он выпивал один стаканчик водки, клал себе в рот крошечный кусочек хлеба и, все еще со шляпой на голове, ни с кем не здороваясь, как будто был один-одинешенек в комнате, проходил, сильно стуча испанской тростью, через библиотеку в свой кабинет. Он называл его своим инкогнито.
Из кабинета он выходил совсем другим человеком, приветствовал весь собравшийся кружок, подавал гостю палец, знатным гостям отвешивал сухой поклон и говорил: - Пойдемте к столу.
В это мгновение сыновья за его спиной нападали на водку.
К изысканному, богатому столу Салтыкова можно было весь год иметь свободный доступ; но должно было являться во фраке, хотя сам хозяин был всегда в сюртуке. За столом прислуживало множество лакеев в ливрее. Тяжелая столовая посуда и каждая тарелка были украшены гербом Салтыкова (рука, занесшая обнаженный меч). Салтыков за столом любил рассказывать что-нибудь из истории, и рассказ его обыкновенно не имел конца. Тем не менее, он казался мне очень интересным человеком.
В 1834 году он еще продолжал разыгрывать роль крайне недовольного, которая тогда уже была на редкость. В детстве он воспитывался вместе с наследником престола, Александром Павловичем, забылся однажды против своего высокого товарища и был удален из дворца. В военной службе он не пошел далее корнета. Немало удивили меня такие слова из его уст:
- Я не могу купить ни дома, ни имения. У нас нужно иметь чин или титул, ну, могу ли я подписаться: корнет Салтыков? Я отказался от всех титулов. Ему никогда и не предлагали никакого.
За столом я должен был сидеть всегда возле него, потому что в первый раз так случилось. Если кто другой хотел сесть на мое место, то, кто бы ни был этот гость, Салтыков, указывая на меня пальцем, говорил: - Это его место. Перед прибором Салтыкова всегда стояла полубутылка портера Декока (тогда еще редкая новинка), которой он не пользовался и которая постоянно торчала перед ним.
- Я не могу купить ни дома, ни имения. У нас нужно иметь чин или титул, ну, могу ли я подписаться: корнет Салтыков? Я отказался от всех титулов. Ему никогда и не предлагали никакого.
За столом я должен был сидеть всегда возле него, потому что в первый раз так случилось. Если кто другой хотел сесть на мое место, то, кто бы ни был этот гость, Салтыков, указывая на меня пальцем, говорил: - Это его место. Перед прибором Салтыкова всегда стояла полубутылка портера Декока (тогда еще редкая новинка), которой он не пользовался и которая постоянно торчала перед ним.
Однажды я говорю ему: Quand delivrerez-vous ce petit prisonnier de guerre anglais? (Когда освободите вы этого маленького военнопленного англичанина?). Словечко понравилось ему, и с тех пор он всегда, тыкая одним пальцем в маленькую портерную фляжку, кивал головой на меня, и сейчас лакей в ливрее, отличавшийся необыкновенно высоким ростом, схватывал полубутылку и наливал мне; сам же Салтыков не попробовал из нее ни капли. Когда бывал Блудов, мой высший начальник, то он садился по левую сторону госпожи Салтыковой, против меня, и уж тогда я оставался безмолвен, что и было в порядке вещей.
Благодаря своему вранью или, лучше сказать, бреду, Салтыков попал однажды по отношению к Блудову в очень неловкое положение. Старый итaльянcкий архитектор Вендрамини был в течение многих лет постоянным застольным гостем Салтыкова, который уверил его, что он еще мальчиком получил от императора Павла Андреевскую звезду, украшенную чрезвычайно большими алмазами, и хранит эту драгоценность с своими табакерками.
Благодаря своему вранью или, лучше сказать, бреду, Салтыков попал однажды по отношению к Блудову в очень неловкое положение. Старый итaльянcкий архитектор Вендрамини был в течение многих лет постоянным застольным гостем Салтыкова, который уверил его, что он еще мальчиком получил от императора Павла Андреевскую звезду, украшенную чрезвычайно большими алмазами, и хранит эту драгоценность с своими табакерками.
Простосердечный итальянец вполне поверил этой истории и, конечно, думал оказать услугу Салтыкову, обратившись однажды, в присутствии Блудова, к нему с просьбой:
- Ах, пожалуйста, покажите нам прекрасную Андреевскую звезду, которую вам пожаловал император Павел. Вы мне уже сколько раз обещали. Я видел, как Блудов поднял голову; у него у самого был еще только Александр Невский. Салтыков как будто и не слышал Вендрамини. Но когда старик архитектор повторил просьбу, он повернул его кругом и с досадою произнес: - Уж эти мне Итальянцы! Они ничего-таки не понимают в Русской истории!
Однажды за столом Салтыков рассказывал мне:
Видите вы этот столб на дворе, вокруг которого гоняют лошадей на корде? Когда я покинул дворец, у меня была лучшая верховая лошадь во всем Петербурге. Император Александр прислал ко мне своего генерал-адъютанта, чтобы, во что бы ни стало купить у меня эту лошадь. Я приказал вывести ее из конюшни, привязать к столбу и в присутствии посланца застрелил из пистолета.
- Ах, пожалуйста, покажите нам прекрасную Андреевскую звезду, которую вам пожаловал император Павел. Вы мне уже сколько раз обещали. Я видел, как Блудов поднял голову; у него у самого был еще только Александр Невский. Салтыков как будто и не слышал Вендрамини. Но когда старик архитектор повторил просьбу, он повернул его кругом и с досадою произнес: - Уж эти мне Итальянцы! Они ничего-таки не понимают в Русской истории!
Однажды за столом Салтыков рассказывал мне:
Видите вы этот столб на дворе, вокруг которого гоняют лошадей на корде? Когда я покинул дворец, у меня была лучшая верховая лошадь во всем Петербурге. Император Александр прислал ко мне своего генерал-адъютанта, чтобы, во что бы ни стало купить у меня эту лошадь. Я приказал вывести ее из конюшни, привязать к столбу и в присутствии посланца застрелил из пистолета.
Но не всегда, однако ж, он до такой степени ослаблял повода своей фантазии; иногда рассказ его был очень интересен. Например, о великой Французской революции, во время которой он жил с родителями в Париже. Он утверждал, что видел собственными глазами, как в Пале-рояльском саду Камиль Демулен вскочил на стол и произнес свою знаменитую речь. Конечно, имелись основательные причины не верить этому рассказу; ибо в 1789 году он был еще очень молод, и родители его, скрывавшиеся в Париже, вряд ли отпустили бы юношу в такое; опасное время в Пале-рояль.
Он прекрасно знал французскую историю и удовлетворительно историю Средних веков. Он часто спрашивал меня: - Что же Мишель никогда не зайдет ко мне? Мы ведь были друзьями. Я передавал это графу Вьельгорскому, и в один прекрасный летний день мы оба явились к нему. Я держался позади графа, как будто мы только что встретились на лестнице. После обеда мы отправились гулять в Летний сад, в котором пробыли до вечера. Граф завел разговор о былом. Тут было с обеих сторон чего послушать, чему поучиться.
- Мишель, - сказал Салтыков на прощанье, слегка растроганным голосом, - мое шампанское было нехорошо, я это чувствовал; я не знал, что ты будешь. Но если ты опять придешь, я тебя лучше угощу; говори заранее. Если хочешь, я за вами сам заеду в карсте, где бы вы ни были.
Салтыков любил высокопоставленных придворных. Он был мне очень благодарен за мое в этом случае посредничество, но сам он не оказал бы никакой услуги ни мне, ни кому бы то ни было; да никто и не обращался к нему за этим. Успешнее было бы пойти стучаться у входа в гробницы фивских царей.
Самое драгоценное в его доме, как говорили, была коллекция табакерок, хранившаяся в ящиках из зеркального стекла и которую Салтыков никому не показывал. Он был страшный нюхалыцик и каждый день употреблял новую табакерку, одну другой богаче. Он любил, чтоб их замечали, и с удовольствием пускался на счет их в объяснения. По большей части то были исторические табакерки, и сии последние он покупал, что бы они стоили, держа с этой целью корреспондентов в Париже, где, как кажется, можно достать все, если только сумеешь поискать.
Каждой из своих трех дочерей он дал особое прозвище: Елену Салтыкову называл roche-croche, что не имеет никакого значения, а разве только соответствовало ее дородности; София должна была откликаться на имя Tania, а старшую, вышедшую замуж в Швеции за Моргенштерна, называл он la baronne, причем обыкновенно пускался в похвалы Швеции и шведам.
По смерти его дом и все движимое имущество были проданы. Двухэтажный дом, с низенькими, уютными комнатами, был вполне барское жилище. В нем вы чувствовали себя, как в укрепленном, уединенно стоящем замке богатого землевладельца. Первый, затопляемый осенью камин, меня в особенности привлекал туда. Даже сам вход в него, прямо с тротуара в нижний этаж, дышал уютностью, благодаря камину, пылавшему между колонн этой длинной прихожей. Дом бесследно исчез. Теперь на его месте стоит Grand-Hotel.
Смерть Салтыкова едва ли удостоилась какого-либо упоминания в обществе, в течение многих лет пользовавшимся его гостеприимством. Я сожалел о нем, как о потере истинно оригинального человека.
- N'est pas original qui veut, mais qui peut (Не всякий оригинален, кто хочет им быть, но кто может), возражал я всякий раз, как заходил разговор о Салтыкове (Сергей Васильевич Салтыков (владелец огромной библиотеки, которая так долго продавалась в Москве у Готье, внук Петра Васильевича (старшего брата Елизаветинскому Сергею Васильевичу) и сын Василия Петровича от брака его с княжною Евдокией Михайловной Белосельской), род. 1777, ум. 10 мая 1846. Жена его, Александра Сергеевна, была тоже из рода Салтыковых), le glorieux, как его называли.
В этом мне поддакивал генерал-адъютант и знаменитый военный писатель барон Жомини, отец известного в настоящее время дипломата. Этот умный человек тоже бывал иногда у Салтыкова.
1-го июля отвез он меня в своей карете от него в Петергоф, где меня ожидал граф Вьельгорский. Этим он мне предоставил случай чему-нибудь научиться, которого я не хотел упустить. Я просил снисходительного и ученого генерала объяснить мне, в чем собственно заключается военное искусство, о котором он написал свое знаменитое сочинение.
- Очень просто, - отвечал он, - оно, в конце концов (en derniere instance) заключается в том, чтоб всегда быть двоим против одного.
Салтыков не бывал ни в театрах, ни в концертах: он был отшельник, эгоист, но это не мешало ему быть человеком с сердцем. Когда я имел несчастье сломать себе ногу и лежал в постели, он навещал меня ежедневно. Для этого ему нужно было только продолжить свою прогулку из Малой Морской к Велизару до Литейной, и притом пешком; ибо он, имея возможность держать столько экипажей, сколько пальцев на руке, никогда не ездил. В это время он опаздывал к обеду, заставлял себя ждать и, выходя из своего инкогнито, печально приговаривал: - Он умрет!
К моей постели он, разумеется, подходил со шляпой на голове и слегка стуча испанской тростью. Стереотипным вопросом его было: - Долго ли придется еще мне вас навещать? Это была его манера осведомляться о моем здоровье. Когда я, наконец, снова появился у него, он сказал:
- Пойдемте обедать, и немножко раньше срока потыкал в маленькую бутылку с портером Лекока.
Несколько дней спустя после вечера, проведенного в Летнем саду, в котором со времен императора Павла нога Салтыкова не бывала, встретился я с графом Вельгорским на Невском, Он очень рад был меня увидеть и кивал мне еще издали.
- Пойдемте обедать, и немножко раньше срока потыкал в маленькую бутылку с портером Лекока.
Несколько дней спустя после вечера, проведенного в Летнем саду, в котором со времен императора Павла нога Салтыкова не бывала, встретился я с графом Вельгорским на Невском, Он очень рад был меня увидеть и кивал мне еще издали.
Жаркое июльское солнце раскаляло пустынную улицу, на которой не видно было ни одного экипажа. - Как ты попал сюда? спросил граф.
- Какими судьбами вы-то сюда попали, граф? (Мы оба отличались особенностью, что никогда не ходили гулять).
- Я курил в Михайловском сквере, - объяснил мне граф, sicut meus est mos (По моему обыкновению), и тут мне пришло на память, что Алексей Салтыков, Индеец, два раза оставлял у меня свою карточку. Он вообразил, что застанет меня дома летом!
- Ну, мне надо у него побывать, и так как это недалеко, то я отправлюсь пешком. Пойдем со мной, ты увидишь экземпляр, который нечасто попадается. Не говорил ли ты, что тебе различные местности в Индии также хорошо знакомы, как в Альпах? Не правда ли?
- Что касается индийских монументов, то правда.
- Ну, так идем вместе. Я ему скажу, что ты был в Индии, это ему доставит удовольствие. Может быть, вы еще сделаетесь друзьями. Ты можешь от него многого наслышаться и многому научиться?
- Он родственник Сергею Васильевичу?
- Нет, он князь Салтыков (Князь Алексей Дмитриевич Салтыков, внук Александровского воспитателя). Он каждые пять лет приезжает сюда для возобновления паспорта.
Возобновить паспорт трудно, и для этого-то он и был у меня - знаешь! Но я, впрочем, поговорю о нем с Нессельроде. Англичане в Индии заподозрили Салтыкова Русским шпионом. Дурачье! Салтыков шпион! Ну, да ты его сам увидишь, он насквозь джентльмен и тебе, наверное, понравится. Мы его теперь застанем дома, потому что раньше вечера он не выезжает; он дичится людей, ты его увидишь в персидском одеянии, он был и в Персии и из подражательной умеренности ужинает бараниной с рисом. Он по целым дням занимается живописью. Его дом, словно музей, свои коллекции он держит в Петербурге, и управляющий его имениями должен все выкапывать и выставлять к его приезду, иначе он в дом не войдет.
Салтыков, по прозванию Индеец, занимал в гостинице Демута бельэтаж, обращенный к Мойке. Мы входим в залу, увешанную до потолка персидскими коврами, а по углам украшенную индийским оружием: длинными копьями, индустанскими саблями, маленькими кривыми малайскими кинжалами. Посреди большой стол, на котором разложены фолианты с гравюрами на меди. Между ними я нахожу Дашэля, источник всех моих сведений об Индш. Л
Салтыков, по прозванию Индеец, занимал в гостинице Демута бельэтаж, обращенный к Мойке. Мы входим в залу, увешанную до потолка персидскими коврами, а по углам украшенную индийским оружием: длинными копьями, индустанскими саблями, маленькими кривыми малайскими кинжалами. Посреди большой стол, на котором разложены фолианты с гравюрами на меди. Между ними я нахожу Дашэля, источник всех моих сведений об Индш. Л
акея-англичанина, который хотел об нас доложить, граф запросто оттолкнули в сторону.
Минуты через две из боковой комнаты вышел князь, в узком кашемировом сюртуке, в широких красных панталонах, в желтых турецких башмаках, с заостренными в виде птичьего клюва носками. Более изящной и аристократической наружности я никогда не видывал. Ему было около сорока лет. Волосы несколько поседели, поступь мягкая, сохранившая юношескую гибкость, черты худощавого, продолговатого лица добродушно меланхолические.
Минуты через две из боковой комнаты вышел князь, в узком кашемировом сюртуке, в широких красных панталонах, в желтых турецких башмаках, с заостренными в виде птичьего клюва носками. Более изящной и аристократической наружности я никогда не видывал. Ему было около сорока лет. Волосы несколько поседели, поступь мягкая, сохранившая юношескую гибкость, черты худощавого, продолговатого лица добродушно меланхолические.
Он подошел к графу (посещение которого для него, конечно, было очень важно), так как будто он только что с ним виделся. Граф обнял его. Меня, разумеется, князь осмотрел с ног до головы. Это было вполне по-английски. Английский элемент, как я впоследствии имел случай заметить, хотя и умеренный Русскими благодушием, проникал его насквозь, не имея, однако над ним решительного преобладания.
Итак, я был представлен, как человек, тоже побывавший в Индии. Салтыков принял это так равнодушно, как будто ему говорили о Павловске.
- Каким путем вы туда попали? - спросил он своим чарующим голосом. Я назвал обыкновенный путь из Суэца на Бомбей. Он отвечал, что этим путем ездил три раза и взял карту, нарисованную чернилами и на которой все три его путешествия были обозначены красными, черными и синими цветами. Карта была составлена искусно и на память, изображая только необходимое.
- Прекрасная страна света, - сказал князь, - это остров Цейлон. Наблюдали ли вы там солнечные восхождения? Что за великолепие цветов!
Он подвел графа к изданию Даниэля. Это совершенно верно природе, тут ничего нет преувеличенного. Там действительно все так горит. Я в отчаянии, что не могу воспроизвести этого освещения, а Даниэль представляет не более, как только оттиски красок.
В соседней комнате я рисую красками - хотите, я покажу вами несколько картин, изображающих пальмовые леса. Освещение зелени еще мне удается, но на передачу огневых тонов в Цейлоне искусства моего решительно не хватает.
- Любите ли вы руины? - обратился он ко мне.
- Храмы в пещерах Сольсетты и Эллоры возбудили во мне удивление, - отвечал я так скромно, как только возможно. Салтыков перевернули лист.
- А! Кайлас! вскричал я тотчас же, - с огромным слоном на паперти, у которого нет одной ноги.
Граф кивнул головой, довольный удачным продолжением нашего маленького обмана. Мы поддерживали таким образом разговор во все время перелистывания картин.
В заключение князь показал нам литографированные в Париже индийские виды: фолиант на толстой, слоновой бумаге, с широкими полями, артистически разукрашенными.
- Эти виды имеют важное значение и пережили своего составителя, но в настоящее время могут быть найдены только в больших библиотеках. Они обнимают природу, искусство и людей, и сейчас видно, что сняты с натуры. Здесь вы видите слона, запряженного в плуг, между тем как два других спокойно ожидают своей очереди под навесом. Там целый строй празднично изукрашенных слонов преклоняет колена перед раджей.
В заключение князь показал нам литографированные в Париже индийские виды: фолиант на толстой, слоновой бумаге, с широкими полями, артистически разукрашенными.
- Эти виды имеют важное значение и пережили своего составителя, но в настоящее время могут быть найдены только в больших библиотеках. Они обнимают природу, искусство и людей, и сейчас видно, что сняты с натуры. Здесь вы видите слона, запряженного в плуг, между тем как два других спокойно ожидают своей очереди под навесом. Там целый строй празднично изукрашенных слонов преклоняет колена перед раджей.
Далее ночное путешествие в паланкине, в сопровождении голых, сухих как веретено индустанцев, с факелами в руках. Там сверкает священный пруд, в котором при лунном свете приносятся в жертву аллигаторам девицы; чудовища, высунувшись из воды, ожидают своей прелестной добычи. В одном углу этой ужасной картины совершенно схоже изображен сам путешественник, в английском сюртуке, с тонким английским зонтиком, вместо тросточки, в руке.
Но самый интересный из этих видов бесспорно вид маленького уединенного домика в Гималайских горах, настоящей Русской избы, но только менее изукрашенной резьбой. Эти украшения, пояснил князь Салтыков, встречаются на храмах в Голконде, за исключением Русского просветленного колеса, похожего на солнце.
- Не указывает ли это на общее происхождение обоих народов? - вмешался граф.
Но самый интересный из этих видов бесспорно вид маленького уединенного домика в Гималайских горах, настоящей Русской избы, но только менее изукрашенной резьбой. Эти украшения, пояснил князь Салтыков, встречаются на храмах в Голконде, за исключением Русского просветленного колеса, похожего на солнце.
- Не указывает ли это на общее происхождение обоих народов? - вмешался граф.
- Не знаю, - возразил Салтыков, - но меня поразило это сходство. Впрочем у Риттера все, должно быть есть, но Риттер толстая немецкая книга, а я питаю отвращение к толстым книгам.
- Азия Риттера, - заметил я, - состоит из 17 толстых томов, каждый более чем в 1000 печатных страниц.
- Вот оно что! сказал граф, - но что же говорит толстый Риттер о связи между Индийскими орнаментами и Русской сельской архитектурой? Об этом он не говорит ничего, потому что где же ему знать Русскую избу, точно также как и это пустынное место в Гималаях, в котором, может быть, и побывать-то удалось только одному князю?
- Но кто же живет в этих домиках? - спросил я.
- Это ничто иное, как скирды, - отвечал князь. А! как в Швейцарии, в Туртмантале и Эйнфиштале.
- Вы видели их?
- Еще бы! Но не заводите с ним разговора о Швейцарии, предупредил граф: его россказням конца не будет.
В весьма короткое время у меня с Салтыковым завязались близкие сношенья. Я навещал его по утрам, он приезжал ко мне в своем изящном купе по вечерам, после 11 часов. Прежде всего, я должен был сыграть ему что-нибудь на фортепьяно. Однажды, когда я играл ему басовое соло в Allegretto из симфонии Бетховена A-dur, я заметил, что эта мистическая музыкальная фраза в низких тонах напоминает марш слонов в Индийском подземельном капище. С этой минуты он возымел особое предпочтение к этой пьесе, и я должен был часто ему играть ее.
- Азия Риттера, - заметил я, - состоит из 17 толстых томов, каждый более чем в 1000 печатных страниц.
- Вот оно что! сказал граф, - но что же говорит толстый Риттер о связи между Индийскими орнаментами и Русской сельской архитектурой? Об этом он не говорит ничего, потому что где же ему знать Русскую избу, точно также как и это пустынное место в Гималаях, в котором, может быть, и побывать-то удалось только одному князю?
- Но кто же живет в этих домиках? - спросил я.
- Это ничто иное, как скирды, - отвечал князь. А! как в Швейцарии, в Туртмантале и Эйнфиштале.
- Вы видели их?
- Еще бы! Но не заводите с ним разговора о Швейцарии, предупредил граф: его россказням конца не будет.
В весьма короткое время у меня с Салтыковым завязались близкие сношенья. Я навещал его по утрам, он приезжал ко мне в своем изящном купе по вечерам, после 11 часов. Прежде всего, я должен был сыграть ему что-нибудь на фортепьяно. Однажды, когда я играл ему басовое соло в Allegretto из симфонии Бетховена A-dur, я заметил, что эта мистическая музыкальная фраза в низких тонах напоминает марш слонов в Индийском подземельном капище. С этой минуты он возымел особое предпочтение к этой пьесе, и я должен был часто ему играть ее.
Хотя он имел обыкновение есть только раз в день, но по его приглашению мы часто отправлялись с ним по вечерам ужинать. На первый раз я выбрал ресторан Леграна (ныне Дюссо), потому что первая от входа, комната хорошо проветривается, украшена цветами, а главное, совершенно пуста. Мы бывали там часто и долго беседовали. Салтыков приказывал приносить себе счет на следующее утро, ибо не носил с собою портфеля, боясь испортить сюртук работы первого лондонского портного.
- В Париже не умеют шить платья. На мой вопрос: что же такой сюртук стоит? он отвечал спокойно, по своему обыкновению (так как вообще его речи никогда не имели в себе ничего хвастливого, а наоборот, отличались женственной застенчивостью): ten founds, 10 ф. стерлингов. Великим знаком расположения, которое оказал мне Салтыков, был подарок его видов, числом свыше ста. Он был на этот предмет скуп; литография стоила ему 10000 Франков. Он мне подарил их два экземпляра. Один находится в Риге в надежных руках; другой я продал за хорошие деньги. Это было с моей стороны непростительно, но вполне в порядке вещей.
Мы говорили по-французски, но он любил приплетать и английские слова. Кто умел искусно предложить вопрос, тому он отвечал охотно, хотя и не любил расспросов. Я наслышался от него много интересного и должен был бы вести журнал обо всех нелегко доступных данных и цифрах относительно народонаселения, правления Индийского и проч. В Калькутте Салтыков проживал по месяцам у вице-короля. По вечерам, когда спадала жара, они выезжали на слонах прогуливаться по берегу Ганга. Английские верховые лошади были бы удобнее, но это бросило бы тень на ореол, которым вице-король считал нужным окружать себя.
- Однажды за столом, - рассказывал он, - заметил я удивительно прекрасного мальчика индуса. Я не спускал с него глаз, ибо мне очень хотелось снять с него портрет; но я не знал, как к этому приступить, чтоб не унизиться в глазах англичан, считающих туземцев за низшую породу людей и очень много придающих весу моему общественному положению и титулу.
В течение обеда мальчик исчез. Когда я осмелился о нем осведомиться, то узнал, что он вдруг умер от холеры, которая, в случае если она злокачественна, губит людей в самое короткое время.
- А вы сами не боялись?
- Об этом никто не думает; в нашем кругу не было вовсе таких случаев, да и не говорят об этом. Воздерживаются только от плодов и пьют очень крепкий, немножко охлажденный херес. Разумеется, жара страшная. До 6 часов вечера нельзя выходить из дому.
- А вы сами не боялись?
- Об этом никто не думает; в нашем кругу не было вовсе таких случаев, да и не говорят об этом. Воздерживаются только от плодов и пьют очень крепкий, немножко охлажденный херес. Разумеется, жара страшная. До 6 часов вечера нельзя выходить из дому.
Однажды, в сильнейшую жару, я послал с письмом слугу индуса, красивого молодого человека, а сам остался у окна. Бедняк едва сделал сто шагов, как свалился с ног. Его поразил солнечный удар, и он умер: смерть его лежит на моей совести. Он умел говорить по-английски. Зачем он меня не предупредил! Я был вне себя. Англичанам я не мог поведать об этом; им мои угрызения совести показались бы ребяческими, они не поняли бы моего горя.
В самую сильную жару вице-король со всей свитой переселяется в Симлах, на отрог Гималай. Деревня эта расположена на значительной высоте и пользуется очаровательным климатом. Там было хорошо, но дорого: бутылка хересу 2 ф. стерлингов.
В самую сильную жару вице-король со всей свитой переселяется в Симлах, на отрог Гималай. Деревня эта расположена на значительной высоте и пользуется очаровательным климатом. Там было хорошо, но дорого: бутылка хересу 2 ф. стерлингов.
Я весь день рисовал деревья, кедры, нельзя себе представить, как толсты, как высоки деревья, как великолепна на них листва! Раз привыкнешь к этому ландшафту, к этому горному воздуху, к этому отборному обществу и его этикету, то уже во всяком другом месте чувствуешь себя неловко.
- А змеи, ядовитые насекомые?
- Их нечего бояться. У англичан все чисто, змеи лежат в excavations (так любил он называть пещерные капища), и именно Cobras Cabellas, укус которой причиняет немедленную смерть. Туда входят с факелами, и можно видеть, как ползают эти гады, избегая людей.
Салтыков, по ходатайству графа, хотя и получил паспорт, но только на два года. Вследствие этого он стал чаще приезжать в Петербург, а не в одни только Олимпиады, как прежде, и я имел возможность с ним чаще видеться. Я никогда не забуду этого джентльмена au naturel.
- А змеи, ядовитые насекомые?
- Их нечего бояться. У англичан все чисто, змеи лежат в excavations (так любил он называть пещерные капища), и именно Cobras Cabellas, укус которой причиняет немедленную смерть. Туда входят с факелами, и можно видеть, как ползают эти гады, избегая людей.
Салтыков, по ходатайству графа, хотя и получил паспорт, но только на два года. Вследствие этого он стал чаще приезжать в Петербург, а не в одни только Олимпиады, как прежде, и я имел возможность с ним чаще видеться. Я никогда не забуду этого джентльмена au naturel.
Он был непонятный оригинал. Терпеть не мог писать, и наилюбезнейшее письменное приглашение приводило его в затруднение. Как часто я за него писал ответы туда, где неизвестен был мой почерк, и если подпускал булавку, делавшую невероятным повторение приглашения, то это очень его радовало.
- Я никогда не обедаю не дома, - говорил он обыкновенно, - что они хотят меня мучить! Я voyageur, dessinateur (путешественник-рисовальщик), я не гожусь в эти гостиные, где меня спрашивают что такое Индия.
Интересно было мне узнать, каким образом Салтыков получил это пристрастие к Индии.
- Мы жили, - рассказывал он, в родительском доме возле дворца принца Ольденбургского. Я был еще мальчиком, когда прибыл в Петербург Абас-Мирза, чтобы принести извинения по поводу избиения русского посольства с его представителем Грибоедовым (20 января 1829 г.) и вместе с тем доставить Императору двух слонов. Ноги слонов были обуты в высокие меховые сапоги. С той минуты, как я увидал этих животных, меня стала преследовать мысль увидеть их родину.
- Я никогда не обедаю не дома, - говорил он обыкновенно, - что они хотят меня мучить! Я voyageur, dessinateur (путешественник-рисовальщик), я не гожусь в эти гостиные, где меня спрашивают что такое Индия.
Интересно было мне узнать, каким образом Салтыков получил это пристрастие к Индии.
- Мы жили, - рассказывал он, в родительском доме возле дворца принца Ольденбургского. Я был еще мальчиком, когда прибыл в Петербург Абас-Мирза, чтобы принести извинения по поводу избиения русского посольства с его представителем Грибоедовым (20 января 1829 г.) и вместе с тем доставить Императору двух слонов. Ноги слонов были обуты в высокие меховые сапоги. С той минуты, как я увидал этих животных, меня стала преследовать мысль увидеть их родину.
С психологической точки зрения это уже само по себе замечательно. Но что путешественник несколько раз посещал Индию и жил в ней по нескольку лет, тому есть другая причина.
Он отыскивал идеальное женское личико, которое представляло бы собою нежные, продолговатые индустанские черты. Таких головок он нарисовал тысячи, и ими переполнены были все его портфели. Замешана тут была также и обманутая любовь.
Он отыскивал идеальное женское личико, которое представляло бы собою нежные, продолговатые индустанские черты. Таких головок он нарисовал тысячи, и ими переполнены были все его портфели. Замешана тут была также и обманутая любовь.
По внешним манерам впоследствии в Париже напомнил мне Салтыкова Шопен. Для полного сходства Шопену не доставало 20000 рублей годового дохода, которых Салтыкову, не смотря на всю его экономно, казалось мало, чтоб не уступать англичанам в Индии, в особенности в Симлахе.
Салтыков умер в Париже, где и брат его Петр жил годами, собирая коллекцию рыцарских доспехов. Я ему часто предсказывал, что он закончит Парижем, чему он не хотел верить, так как не любил Парижа. Там он сажал огурцы и солил их на русский манер. Он жил отшельником и приглашал к себе в дом только хороших рисовальщиков, так как и сам был не из последних. Он несколько раз писал мне, и я показывал его письма графу.
- Видишь ли, - сказал мне граф, - как хорошо, что я тебя тогда встретил по дороге к Салтыкову. Иначе я никогда и не подумал бы представлять ему тебя; это произошло случайно.
Пусть читатель представит себе положение молодого человека, приехавшего в Петербурга вести процесс в Сенате против человека, власть имеющего. Таково было именно мое положение. Я очутился в большом городе без средств, без знакомств и предстал перед Сенатом, как перед Сфинксом, которому человек, власть имеющий, успел замолвить словечко.
Процесс не касался лично меня, но дорогие сердцу моему родственники почтили меня доверием, которое я решил оправдать, во что бы то ни стало. Я уже рассказал в первой главе Записок, как приютила меня в своем доме старая графиня. У нее в доме я почувствовал твердую почву у себя под ногами в городе, где дважды два только случайно составляли четыре, а могли и равняться нулю или составить семь и более.
Кузен Жан, вечно возившийся со своими монетами, не имел никакого понятия о тяжбах и о тех людях, с помощью которых я мог добраться до своих судей. Старая графиня считала, что министр двора, князь Волконский, есть начало и конец человечества. Она видела его ежедневно, но не смела говорить с ним о делах. Об испрошении его покровительства нечего было и думать. Волконский не вмешивался ни во что, это было всем известно, и даже в делах, подлежавших личному его ведению, он обыкновенно говорил - нет, почему его и называли, вместо князь Петр Михайлович, le prince de pierre или le prince Non (каменный князь, или князь Нет).
В пятидесятилетний юбилей его службы Государь возвел его в фельдмаршалы. В доме старой графини я узнал, что есть знатные люди, от которых никогда не отстоишь так далеко, как если живешь с ними и в среде их общества. На святках 1833 года графине вздумалось сделать Волконскому сюрприз, который, скорее мог доставить удовольствие ей, чем ему. В то время было еще в обычае, на святках, разгуливание ряженных по городу.
Старуха нарядила детей своих племянниц, госпож фон Эссен и фон Ломанн. Я должен был тоже надеть домино и маску. Под предводительством старой барыни мы молчаливой процессией взобрались по узкой, но удобной витой лестнице Зимнего Дворца, ведшей в жилище Волконского. Когда мы вошли к нему, он приказал нам, детям (мне было тогда уже 24 года) чего-то подать. Он милостиво протянул мне руку и обменялся со мной парой французских слов, через что я много вырос в глазах старой графини.
На масленице князь обыкновенно отдавал на один вечер свою прекрасную ложу в Большом театре графине и детям ее племянниц, с включением в то же число и меня. Тогда она говорила:
- Мы были при дворе, - и придавала этому чрезвычайную важность. Раз в году, летом, графиня посещала свое именьице на 70-й версте по Нарвской дороге, чтобы заняться сельским хозяйством и обеспечить свои доходы. Жан, я и старая горничная должны были отправляться с нею.
В таком случае мы с грохотом выезжали в описанной уже в первой главе громадной старой карете, с весьма кислыми физиономиями, потому что путешествие длилось долго, и на половине дороги, в Кипене, нам приходилось в продолжение нескольких часов кормить лошадей у одного немецкого колониста. Я в это время читал последний роман Бальзака; Жан, вытащив из кармана несколько монет, разбирал их надписи с помощью увеличительного стекла, которое всегда имел при себе.
На границе имения нас встречал староста. Приехав в именьице, графиня ревностно принималась за инспекцию хозяйства, заключавшуюся в том, что горничная отпирала старинные шкафы, вынимала оттуда запыленные чашки, тарелки, всякую столовую посуду, проверяла ее по списку, чистила и вновь запирала. В этом и состоял весь осмотр, оканчивавшийся маленькой речью, в которой взывалось к совести старосты. Тогда старушка, вполне довольная, объявляла нам:
- Теперь поедем к соседям.
Соседями были Эссены, владевшие прекрасным имением Ивановским, с настоящим дворцом, окруженным громадными парками и в котором в свое время давались великолепные празднества в честь князя Волконского; далее графиня Фермор, урожденная фон Альбрехт, жившая в своем крошечном поместье.
Эта последняя знавала в Риге моего отца и все наше семейство, что она и заявила наилюбезнейшим образом, лишь только услышала мою фамилию. Это опять возвысило меня в глазах старой графини. Жан был всегда очень доволен, когда дело близилось к возвращению в город, я же был к этому совершенно равнодушен; ибо вопрос о том, для чего я собственно приехал в Петербург, становился для меня все более и более неясным.
Эта последняя знавала в Риге моего отца и все наше семейство, что она и заявила наилюбезнейшим образом, лишь только услышала мою фамилию. Это опять возвысило меня в глазах старой графини. Жан был всегда очень доволен, когда дело близилось к возвращению в город, я же был к этому совершенно равнодушен; ибо вопрос о том, для чего я собственно приехал в Петербург, становился для меня все более и более неясным.
Я толкался к сенаторам, в руках которых находился мой процесс, но не был принимаем. Ту же участь испытал я и у обер-прокурора Лобанова-Ростовского. Между тем для меня все зависело от того, чтоб увидеться с этими господами и поговорить с ними об отношениях, о которых они не имели понятия, ибо таковых не существовало в России.
Что тут можно было сделать посредством письма? Да и вопрос еще, прочтут ли как следует письмо, в котором, однако ж, было бы столько существенного для чтения!
При таком положения дел, угрожавшем моему будущему, равно каясь и настоящему, встретился я в магазине с одной московской дамой, с которой познакомился год тому назад в Москве и которая, собираясь ехать за границу, по пути приехала на короткое время в Петербург.
Это была г-жа Сольдан, урожденная Мерлина, игравшая со своими тремя прелестными дочерями видную роль в высшем Московском обществе. Я был радушно принимаем в ее музыкальном семействе. С ней я мог откровенно поговорить о своих заботах.
- Не может ли вам быть полезным Лобанов-Ростовский? - спросила она.
- Он-то и есть самоважнейший для меня человек.
- Это очень кстати, он обещал быть на моем маленьком прощальном вечере, я вас представлю ему и дам вам при отъезде письмо на его имя, тогда вы можете поговорить с ним о делах. Это мой старый друг. Помните, когда вы уезжали из Москвы в Константинополь, я дала вам письмо к посланнику Бутеневу, - разговоритесь о нем с Лобановым; они большие друзья.
Лобанову было около 50 лет. Он был небольшого роста, сухопар и имел чрезвычайно живые манеры. Я уже испытал, что чем менее рост, тем труднее ухватиться за человека. Я заметил, что он, не будучи собственно кос, имел обыкновение перекашивать и носил парик. Подобные люди всегда держатся оборонительного положения.
- Не может ли вам быть полезным Лобанов-Ростовский? - спросила она.
- Он-то и есть самоважнейший для меня человек.
- Это очень кстати, он обещал быть на моем маленьком прощальном вечере, я вас представлю ему и дам вам при отъезде письмо на его имя, тогда вы можете поговорить с ним о делах. Это мой старый друг. Помните, когда вы уезжали из Москвы в Константинополь, я дала вам письмо к посланнику Бутеневу, - разговоритесь о нем с Лобановым; они большие друзья.
Лобанову было около 50 лет. Он был небольшого роста, сухопар и имел чрезвычайно живые манеры. Я уже испытал, что чем менее рост, тем труднее ухватиться за человека. Я заметил, что он, не будучи собственно кос, имел обыкновение перекашивать и носил парик. Подобные люди всегда держатся оборонительного положения.
Он говорил беспрерывно и притом очень хорошо, вполне владея даром слова и умея одинаково хорошо выказывать свой блестящий ум, как на русском, так и на немецком языках. Я отвечал пространно на его расспросы о Бутеневе, о посольстве, о секретаре Волкове, об Устинове (советнике посольства) - всё лица, бывшие в течение двух месяцев, проведенных мною на берегу Босфора в Буюкдере, моими ежедневными собеседниками.
Устинов был прекрасный виолончелист. С ним и Бутеневым (скрипка) я разыгрывал бетховенские трио при единственном слушателе, австрийском интернунции, как тогда называли австрийских посланников. В Константинополь я ездил не из праздного любопытства, а из пламенного энтузиазма к Римскому праву, откровение о котором я получил в Дерпте. Я имел в виду отыскивать потерянные источники его в библиотеке Сераля и в Греческих монастырях. На это я получил от моего великого учителя Клоссиуса инструкции и наставление, как, с помощью различных тинктур, вытравлять с пергаментов ничего не стоящую рукопись какого-нибудь монаха и восстанавливать Римский текст, замаранный им для того, чтоб воспользоваться пергаментом.
Этим способом Нибур в Вероне, и Клоссиус в Милане восстановили несколько потерянных юридических текстов. Эти открытия и увлекательные лекции Клосcиуса очаровали меня. Мне тоже захотелось открыть что-нибудь! Необдуманное предприятие - ибо на это нужны средства, которых у меня не было, и долголетние многотрудные изыскания.
Но самонадеянность свойственна человеку в молодости, и только в старости он познаёт себя во всей своей наготе и убеждается в ничтожности своих способностей! Однако член семейства обязан подчиняться требованиям его, а не влечению своего вкуса. По первому зову я возвратился в Ригу, чтобы посвятить себя Петербургскому процессу, составившему на много лет задачу моей жизни.
На вечере у г-жи Сольдан, когда я вскользь сообщил Лобанову о моих покинутых археологических планах, он сказал мне:
- Ваши кодексы напоминают мне, что я сенатские бумаги принужден читать в перчатках, ибо иначе они режут мне руку.
Мы разговаривали целый вечер, и я покинул общество с легким сердцем в одну из тех светлых майских ночей, которые приводят в такое изумление иностранцев и многим нравятся больше итальянских. Письмо г-жи Сольдан открыло мне доступ Лобанову. Тем не менее, задача моя была нелегка, но она, наконец удалась: я убедил его в своем праве, он дал процессу новое направление, и я выплыл на открытый фарватер.
Лобанов всегда сохранял обо мне благосклонное воспоминание. Когда я в 40-вых годах прибыл по поводу своего процесса в Москву, он был председателем Общего Собрания Московского Сената. Он объявил мне, что вечера проводит в Английском клубе, позволил мне навещать его там и чрезвычайно любезно записывал меня в книгу гостей. Там мы целые вечера проводили в беседах. Он рассказывал мне о прошедшем higt life (Высшее общество) в Москве.
- Этот великолепный дом, - говорил он, - английский клуб, принадлежал графу Разумовскому.
Здесь давались праздники, о которых теперь и понятия никто не имеет. Сама графиня была первая из всех наших красавиц. Она давно уже живет в Петербурге, и она же последняя из знатных дам старого высшего света, не правда ли?
- Она всегда казалась мне такой, я имею честь посещать ее рауты. Ее великолепное жилище в доме Сумарокова устроил для нее сам Император.
- Кто бывает на этих раутах? Расскажите мне все, что касается графини, меня это интересует.
- В первой комнате обыкновенно собирается дипломатический корпус. Император здесь около часа времени проводит в разговорах то с тем, то с другим дипломатом.
- Она всегда казалась мне такой, я имею честь посещать ее рауты. Ее великолепное жилище в доме Сумарокова устроил для нее сам Император.
- Кто бывает на этих раутах? Расскажите мне все, что касается графини, меня это интересует.
- В первой комнате обыкновенно собирается дипломатический корпус. Император здесь около часа времени проводит в разговорах то с тем, то с другим дипломатом.
Потом он переходит в большую гостиную, в которой графиня собирает вокруг себя пожилых дам. В третьей комнате играют в карты, но весьма на немногих столах, в четвертой пред обильно снабженным буфетом порхает и жужжит рой молоденьких дам. Побывав во всех четырех комнатах, Император прощается, и графиня провожает его до прихожей.
- Это должно быть очень интересно, прервал меня Лобанов.
- Делаются наблюдения, прежде 11-ти никто не приходит, и в 3 часа вечеру уже конец.
- А министры бывают там?
- Министров Горчакова и Валуева я встречал каждый раз.
- Кого вы больше придерживаетесь? Кто вам друг?
- Я думаю, Бетховен. В комнате, где играют в карты, висит картина, изображающая князя Андрея Разумовского, некогда бывшего посланником в Вене. Князь сидит за письменным столом, заваленным деловыми бумагами, на них лежит скрипка, а левее стоит лучший в свете бюст Бетховена.
- Это должно быть очень интересно, прервал меня Лобанов.
- Делаются наблюдения, прежде 11-ти никто не приходит, и в 3 часа вечеру уже конец.
- А министры бывают там?
- Министров Горчакова и Валуева я встречал каждый раз.
- Кого вы больше придерживаетесь? Кто вам друг?
- Я думаю, Бетховен. В комнате, где играют в карты, висит картина, изображающая князя Андрея Разумовского, некогда бывшего посланником в Вене. Князь сидит за письменным столом, заваленным деловыми бумагами, на них лежит скрипка, а левее стоит лучший в свете бюст Бетховена.
На раутах графини я стою, как вкопанный, перед этой картиной. Графиня часто мне говаривала: Я подарила бы вам эту картину, но это дар самого Андрея, а он брат моего мужа. Знает ли Вьельгорский, что эта статуя самая лучшая, как вы говорите? Скажите ему это, тогда он, приедет ко мне. Почему он ко мне не ездит? Ведь я же бываю на его вечерах!
- Я это устрою.
- Ну, тогда я вам подарю копию с этой картины.
- Я это устрою.
- Ну, тогда я вам подарю копию с этой картины.
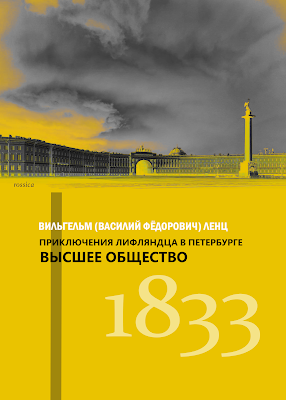


Комментариев нет:
Отправить комментарий