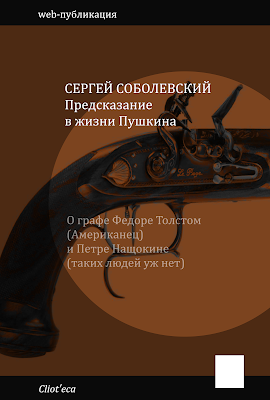Еще около 1818 г. в бытность поэта в Петербурге, одна славная тогда в столице ворожея сделала зловещее предсказание Пушкину, когда тот посетил ее с одним из своих приятелей. Глядя на их руки, колдунья предсказала обоим насильственную смерть.
На другой день приятель Пушкина, служивший в одном из гвардейских полков ротным командиром, был заколот унтер-офицером. Пушкин же до такой степени верил в зловещее пророчество ворожеи, что когда впоследствии, готовясь к дуэли с известным Американцем гр. Толстым (граф Федор Иванович, ниже статья о графе Толстом и П. Нащокине ), стрелял вместе со мною в цель, то не раз повторял: - Этот меня не убьет, а убьет белокурый, - так колдунья пророчила.
И точно, Дантес был белокур.
Это рассказ А. Н. Вульфа.
Это рассказ А. Н. Вульфа.
О странном этом предсказании, имевшем такое сильное влияние на Пушкина, было упоминаемо до сих пор в печати три раза:
1) в «Москвитянине» 1853 года, стр. 52, том 10-й, в статье Льва Пушкина;
2) в «Казанских губернских ведомостях» 1844 года, 2-е прибавление, в статье г-жи Фукс;
3) в «Московских ведомостях» 1855 года, № 145, в статье Бартенева, который вполне передал в ней и рассказ г-жи Фукс. <...>
Вот свидетельство Льва Сергеевича Пушкина:
«Известность Пушкина, и литературная, в личная, с каждым днем возрастала. Молодежь твердила наизусть его стихи, повторяла остроты его и рассказывала о нем анекдоты». «Все это, как водится, было часто справедливо, часто вымышлено. Одно обстоятельство оставило Пушкину сильное впечатление. В это время находилась в Петербурге старая немка, по имени Киргоф.
В число различных ее занятий входило и гадание. Однажды утром Пушкин зашел к ней с несколькими товарищами. Г-жа Киргоф обратилась прямо к нему, говоря, что он человек замечательный, рассказала вкратце его прошедшую и настоящую жизнь; потом начала предсказания сперва ежедневных обстоятельству а потом важных эпох его будущего.
Она сказала ему между прочим: «Вы сегодня будете иметь разговор о службе и получите письмо с деньгами». О службе Пушкин никогда не говорил и не думал; письмо с деньгами получить ему было неоткуда; деньги он мог иметь только от отца, но, живя у него в доме, он получил бы их конечно без письма. Пушкин не обратил большего внимания на предсказание гадальщицы.
Вечером того дня, выходя из театра до окончания представления, он встретился с генералом Орловым. Они разговорились. Орлов коснулся до службы и советовал Пушкину оставить свое министерство и надеть эполеты. Разговор продолжался довольно долго, по крайней мере это был самый продолжительный из всех, которые он имел о сем предмете.
Возвратившись домой, он нашел у себя письмо с деньгами. Оно было от одного лицейского товарища, который на другой день отправлялся за границу: он заезжал проститься с Пушкиным и заплатить ему какой-то карточный долг, еще школьной их шалости.
Г-жа Киргоф предсказала Пушкину разные обстоятельства, с ним впоследствии сбывшиеся, предсказала его женитьбу и наконец преждевременную смерть, предупредив, что должен ожидать ее от руки высокого, белокурого человека». «Пушкин, и без того несколько суеверный, был поражен постепенным исполнением этих предсказаний и часто об этом рассказывал». Это свидетельство Льва Сергеевича Пушкина.
Вот подробности, изложенные в статье г. Бартенева: «Кажется, к этому времени следует отнести столь известное предсказание гадальщицы, которое, к нашему горю, сбылось во всей точности. «Едва ли найдется кто-либо не только из друзей Пушкина, но даже из людей, часто бывавших с ним вместе, кто бы не слыхал от него более или менее подробного рассказа об этом случае, который потому и принадлежит к весьма немногому числу загадочных, но в то же время достоверных, сверхъестественных происшествий.
Во всякой искренней беседе Пушкин вспоминал о нем, и особенно, когда заходил разговор о наклонности его к суевериям и приметам. Так между прочим в 1833 году, в Казани, он передавал его известной писательнице, Александре Андреевне Фукс, которая сообщила его публике в своих «Воспоминаниях о Пушкине».
«Поздно вечером, за ужином, разговорившись о магнетизме и о своей вере в него, Пушкин начал так рассказывать г-же Фукс и ее мужу:
«Быть таким суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н. В. В. ходить по Невскому проспекту, и из проказ зашли к кофейной гадальщице. Мы попросили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее.
«Вы, сказала она мне, на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место; потом, в скором времени, получите через письмо неожиданный деньги; третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественною смертью».
Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании, и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве, при Великом Князе Константине Павловиче, и перешел служить в Петербург; он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве, уверяя меня, что Цесаревич этого желает.
Вот первый раз после гаданья, когда я вспомнил о гадальщице. Через несколько дней после встречи со знакомым, я в самом деле получил с почты письмо с деньгами; и мог ли я ожидать их?
Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я обыграл: он; получив после умершего отца наследство, прислал мне долг, которого я не только не ожидал, но и забыл о нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен».
«Этот рассказ, в верности передачи которого ручается благоговейное уважение г-жи Фукс к памяти Пушкина, далеко неполон. Из достоверных рассказов друзей поэта оказывается, что старая Немка, по имени Киргоф, к числу разных промыслов которой принадлежали ворожба и гаданье, сказала Пушкину:
«Поэт твердо верил предвещанию во всех его подробностях, хотя иногда шутил, вспоминая о нем. Так, говоря о предсказанной ему народной славе, он смеясь прибавлял, разумеется в тесном приятельском кружку: «А ведь предсказание сбывается, что ни говорят журналисты».
По свидетельству покойного П. В. Нащокина, в конце 1830 года, живя в Москве, раздосадованный разными мелочными обстоятельствами, он выразил желание ехать в Польшу, чтобы там принять участие в войне: в нeпpиятeльcкoм лагере находился кто-то по имени Вейскопф (белая голова), и Пушкин говорил другу своему:
- Посмотри, сбудется слово Немки, - он непременно убьет меня! Нужно ли прибавлять, что настоящий убийца - действительно белокурый человек и в 1837 году носил белый мундир? Из этих рассказов всех подробнее и вернее изложение Бартенева.
В многолетнюю мою приязнь с Пушкиным (замечу, что мои свидания и сношения с ним длились позже сношений и госпожи Фукс, и Вульфа, и Льва Пушкина), я часто слышал от него самого об этом происшествии; он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верой в разные приметы.
Сверх того, он, в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были у гадальщицы при самом гадании, причем ссылался на них. Для проверки и пополнения напечатанных уже рассказов, считаю нужным присоединить все то, о чем помню положительно, в дополнение прежнего, восстанавливая то, что в них перебито или переиначено.
Предсказание было о том:
во-первых, что он скоро получит деньги;
во-вторых, что ему будет сделано неожиданное предложение; в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников;
в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке;
наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross, weisser Kopf weisser Mensch), которых и должен он опасаться.
Первое предсказание о письме с деньгами, сбылось в тот же вечер; Пушкин, возвратившись домой, нашел совершенно неожиданное письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга, забытого Пушкиным. Товарищ этот был Корсаков, вскоре потом умер в Италии.
Такое быстрое исполнение первого предсказания сильно поразило Александра Сергеевича; не менее странно было для него и то, что несколько дней спустя, в театре, его подозвал к себе Алексей Федорович Орлов (впоследствии князь) и стал отговаривать его от поста плетя в гусары, о чем уже прежде была у него речь с П. Д. Киселевым, а напротив предлагал служить в конной гвардии.
Эти переговоры с Алексеем Федоровичем Орловым ни к чему не привели, но были поводом к посланию, коего конец напечатан в сочинениях Пушкина (издание Геннади, том 1, стр. 187), а начало в «Библиографических Записках» 1858 г., стр. 338. У нас ошибочно принято считать это послание - посланием к Михаилу Федоровичу Орлову, так как с ним Пушкин впоследствии очень сблизился. Вот это послание, в возможно полном виде:
К А. Ф. Орлову.
О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещенный;
О ты, который с каждым днем
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаешь царей науку;
Но не бесславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача, -
Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля - суеты!
На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.
Смирив немирные желанья,
Без долимана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов;
Над озером, в спокойной хате,
Или в траве густых лугов,
Или холма на злачном скате
В бухарской шапке и в халате
Я буду петь моих богов,
И буду ждать. - Когда ж восстанет
С одра покоя бог мечей
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;
Питомец пламенный Беллоны,
У трона верный гражданин!
Орлов, я стану под знамены
Твоих воинственных дружин;
В шатрах, средь сечи, средь пожаров,
С мечом и с лирой боевой
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.
1819
Вскоре после этого, Пушкин был отправлен на Юг, а оттуда, через 4 года, в Псковскую деревню, что и было вторичною ссылкою.Как же ему, человеку крайне впечатлительному, было не ожидать и не бояться конца предсказания, которое дотоле исполнялось с такою буквальною точностью??? После этого удивительно ли и то, о чем рассказывал Бартеневу Павел Воинович Нащокин?
Прибавлю следующее: я как-то изъявил свое удивление Пушкину о том, что он отстранился от масонства, в которое был принят и что он не принадлежал ни к какому другому тайному обществу. - Это все таки вследствие предсказания о белой голове, - отвечал мне Пушкин.
- Разве ты не знаешь, что «все филантропические и гуманитарные, тайные общества, даже и самое масонство получили от Адама Вейсгаупта направление, подозрительное и враждебное существующим государственным порядкам? Как же мне было приставать к ним? «Weiskopf, Weishaupt, - одно и тоже».
Вот еще рассказ в том же роде незабвенного моего друга, не раз слышанный мною при посторонних лицах.
Известие о кончине Императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследий дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидеться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решился отправиться туда; но как быть?
В гостинице остановиться нельзя - потребуют паспорта; у великосветских друзей тоже опасно - огласится тайный приезд ссыльного. Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь несветскую, и от него запастись сведениями.
Итак Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же идет проститься с тригорскими (Осиповых-Вульф) соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу: на возвратном пути из Тригорского в Михайловское - еще заяц!
Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белою горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец, повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь! в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Все эти встречи - не под силу суеверному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне.
- А вот каковы бы были последствия моей поездки, - прибавлял Пушкин, - я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и следовательно попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я забыл бы о Вейсгаупте, попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые.
Об этом же обстоятельстве передает Мицкевич, в своих лекциях о Славянской литературе, и вероятно со слов Пушкина, с которым он часто видался. (Pisma Adama Mickiewicza, изд. 1860, IX, 293).
вместо эпилога
О графе Федоре Толстом (Американец) и Петре Александровиче Нащокине (таких людей уж нет)
Граф Федор Толстой (Американец. Пушкин состоял с ним в острейшем и долгом конфликте, который, однако, дуэлью не завершился. Л. Н. Толстой величал дядюшку, взявшего в жёны красавицу цыганку из хора, «необыкновенным, преступным и привлекательным человеком» и едва ли не с одобрением воспринимал свойственную тому фамильную «толстовскую дикость».
Когда Толстому сообщили о смерти Пушкина, он, горько заплакал) и Петр Александрович Нащокин (полковник лейб-гвардии Гусарского полка, сошел с ума. На его письменном столе в футляре с надписью «Горе от ума» хранился кинжал, на нем мертвая голова и надпись, что этим кинжалом нанесена смертельная рана Грибоедову (он был приятель Нащокину).
Петр Александрович Нащокин любил рассказывать о графе Федоре Ивановиче Толстом, с которым он был очень дружен. Вот о завязке дружбы. Шла адская игра в клубе. Наконец, все разъехались, за исключением Толстого и Нащокина, которые остались перед ломберным столом.
Когда дошло до расчета, Толстой объявил, что противник должен ему заплатить двадцать тысяч. - Нет, я их не заплачу, - сказал Нащокин, - вы их записали, но я их не проиграл.
- Может быть, это и так, но я привык руководиться тем, что записываю, и докажу это вам, - отвечал граф.
Он встал, запер дверь, положил на стол пистолет и прибавил:
- Он заряжен, заплатите или нет?
- Нет.
- Я вам даю десять минут на размышление.
Нащокин вынул из кармана часы, потом бумажник, и отвечал:
- Часы могут стоить рублей пятьсот, а в бумажнике двадцатипятирублевая ассигнация: вот все, что вам достанется, если вы меня убьете. А в полицию вам придется заплатить не одну тысячу, чтоб скрыть преступление. Какой же вам расчет меня убивать?
- Молодец, - крикнул Толстой, и протянул ему руку, - наконец-то я нашел человека!
Они обнялись и заключили с этой минуты дружески союз, которому остались одинаково верны. В продолжение многих лет они жили почти неразлучно, кутили вместе, попадали вместе в тюрьму, и устраивали охоты, о которых их близкие и дальние соседи хранили долго воспоминание. Друзья, в сопровождении сотни охотников и огромной стаи собак, являлись к незнакомым помещикам, разбивали палатки в саду или среди двора, и начинался шумный, хмельной пир. Хозяева дома и их прислуга молили Бога о помощи и не смели попасться на глаза непрошенным гостям.
Раз, собралось у Толстого веселое общество на карточную игру и на попойку. Нащокин с кем-то повздорил. После обмена оскорбительных слов, он вызвал противника на дуэль и выбрал секундантом своего друга. Согласились драться следующим утром. На другой день, за час до назначенного времени, Нащокин вошел в комнату графа, которого застал еще в постели.
Перед ним стояла полу опорожненная бутылка рома.
- Что ты это ни свет ни заря ромом-то пробавляешься! - заметил Петр Александрович.
- Ведь не чайком же мне пробавляться.
- И то! Так угости уж и меня.
Он выпил стакан и продолжал:
- Однако, вставай: не то мы опоздаем.
- Да ты и так опоздал, - отвечал смеясь Толстой.
- Как?!
- Ты был оскорблен под моим кровом и вообразил, что я допущу тебя до дуэли?! Я один был в праве за тебя отомстить: ты назначил этому молодцу встречу в восемь часов, а я дрался с ним в шесть: он убит.
У Толстого было несметное число дуэлей: он был разжалован одиннадцать раз. Чужой жизнью он дорожил так же мало, как и своей. Во время кругосветного морского путешествия он поссорился с командиром экипажа, Крузенштерном, и вздумал возмущать против него команду. Крузенштерн позвал его.
- Вы затеяли опасную игру, граф, - сказал он, - не забудьте, что мои права неограниченны: если вы не одумаетесь, я буду принужден бросить вас в море. - Что за важность! - отвечал Толстой, - море такое же покойное кладбище, как и земля.
И он продолжал свою пропаганду. Крузенштерн был человек добрый и, решившись прибегнуть к последним мерам лишь в случае крайней необходимости, сделал еще попытку к примирению.
- Граф, - сказал он виновному, - вы возмущаете экипаж; отдайтесь на мою ответственность, и если вы не дадите мне слова держать себя иначе, я вас высажу на необитаемый остров: он уже виден.
- Как! - крикнул Толстой, - вы, кажется, думаете меня запугать! В море ли вы меня бросите, на необитаемый ли остров, мне все равно; но знайте, что я буду возмущать против вас команду пока останусь на корабле. Делать было нечего: Крузенштерн приказал причалить к острову (Камчатка) и высадил Толстого, оставив ему, на всякий случай, немного провианта.
Когда корабль удалялся, Толстой снял шляпу и поклонился командиру, стоявшему на палубе.
Остров оказался, однако, населенным дикарями, среди которых граф Федор Иванович прожил довольно долго. Но тоска по Европе начинала его разбирать, когда, бродя раз по морскому берегу, он увидел, на свое счастье, корабль, шедший вблизи, и зажег немедленно сигнальный костер. Экипаж увидел сигнал, причалил и принял Толстого.
В день своего возвращения в Петербург, он узнал, что Крузенштерн дает бал, и ему пришло в голову сыграть довольно оригинальный фарс. Он переоделся и поехал к врагу и стал в дверях залы. Увидев его, Крузенштерн нескоро поверил глазам.
- Граф Толстой, вы ли это? - спросил он наконец, подходя к нему.
- Как видите, - отвечал незваный гость, - мне было так весело на острове, куда вы меня высадили, что я совершенно помирился с вами и приехал даже вас благодарить.
Вследствие этого эпизода своей жизни, он был назван "Американцем".
Гр. Ф. И. Толстой и П. А. Нащокин обменялись, в знак вечного союза, кольцами, с которыми были похоронены, и дали друг другу слово, что тот из них, который почувствует приближение смертного часа, вызовет другого, чтоб умереть у него на руках. Первый на очереди стоял Толстой.
Когда, по его настоятельному требованию, доктор ему объявил, что его дни сочтены, он велел написать немедленно Нащокину, что умирает и ждет его. Петр Александрович жил тогда в деревне. Кто-то заметил вполголоса в спальне Толстого, что его задержит, вероятно, плохое состояние дорог, по которым решительно не было проезда. Граф Толстой услыхал эти слова и сказал:
- Его ничто не задержит! Будь он на том краю света, он приедет, лишь бы не лежал, как я, на смертном одре.
Нащокин не замедлил, действительно, явиться в Москву и не отходил от умирающего до последней минуты. Он вспоминал всегда с грустью о своем друге, и рассказывал о нем охотно. - Таких людей уж нет, - говорил он раз молодой женщине.
- Если б он вас полюбил и вам бы захотелось вставить в браслет звезду с неба, он бы ее достал. Для него не было невозможного, и все ему покорялось. Клянусь вам, что в его присутствии вы не испугались бы и появления льва. А теперь, что за люди? Тряпье.
Петр Александрович отказался под старость от буйных кутежей и старался помириться с более скромной долей. Иногда он выезжал на охоту, походившую весьма мало на прежние, невозвратные забавы, держал двух ручных медведей вместо комнатных собак, завел великолепный оркестр, так как был музыкант в душе, но видимо скучал среди мирной жизни и хозяйственных занятий.
Раз, живя в своем Серпуховском имении, он пошел посмотреть на постройку новой оранжереи, упал с подмостков и переломил ногу. В Серпухове был тогда искусный врач и хирург, Кундасов; за ним послали немедленно. Осмотрев больного, он решил, что придется отнимать ногу, и прибавил:
- Но я за это не возьмусь: месяца два тому назад я сам переломил руку, и она еще слаба. Надо отправить эстафету в Москву и пригласить другого медика.
На следующий день он опять приехал навестить Нащокина, который встретил его словами: - Я не люблю затягивать дела, нечего ждать другого хирурга. Отнимайте мне ногу. Бундасов стал отговариваться слабостью руки:
- Ведь я вас измучу, - говорил он.
- Не важность! - возразил Нащокин, - скучно ждать! отпилите, и дело с концом.
Доктор настаивал на своем отказе, но взглянув на переломанную ногу, увидал, что можно опасаться гангрены, и поехал за инструментами. Операция продолжалась боле получаса: несколько раз медик бледнел и ронял инструмент; тогда Нащокин подавал ему стакан воды, стоявший на столе около кровати, и говорил: - Ну, пожалуйста, доктор, живее, ведь мне очень больно.
Люди с таковым геройским духом не перевелись на Руси: это доказывает война 1877-1878 гг. (здесь русско-турецкая). Они были далеко не безупречны, но обладали неустрашимостью и силой. Им было море по колена; они не пресмыкались ни перед личностью, ни пред общественным мнением и признавались иногда в своих проступках с откровенностью не лишенной цинизма.
Но Бог знает, - уважительнее ли разыгрывать роль и рядиться в небывалую добродетель. По крайней мере, все знали чего от них можно ожидать и чего опасаться.
Раз князь Сергей Григорьевич Волконский пригласил графа Толстого метать банк, но граф Федор Иванович отвечал ему: - Non, mon cher, je vous aime trop pour cela. Si nous jouions je me laisserais entrainer pas l'habitude de corriger la fortune (Нет, мой милый, я вас слишком для этого люблю. Если б мы сели играть, я увлекся бы привычкой исправлять ошибки фортуны).
Случилось также, что в английском клубе завязался горячий спор между западниками и одним из представителей славянских теорий (Константином Аксаковым). Вдруг к нему подошел незнакомый старик, подал ему руку и сказал, называя его по имени:
- Я вас узнал по тому, что о вас слышал, и по вашей пропаганде.
- Но я не знаю с кем имею честь говорить, - заметил славянофил кланяясь.
- Вероятно и вы обо мне слыхали, - возразил незнакомец, - я:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся Алеутом,
И крепко на руку не чист...
(описание Федора Ивановича Толстого Грибоедовым в "Горе от ума").