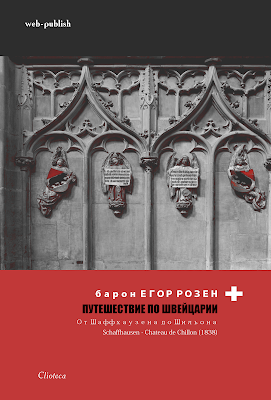Schaffhausen - Chateau de Chillon
Мы оставили Шаффхаузен (нем. Schaffhausen). День прекрасный и теплый; небо без облаков, но воздух непрозрачен: какая-то дымка заслоняет даль. Дилижанс полон. Рейнский водопад незримо провожает нас своим шумом. Мы переплыли Рейн на пароме.
Нас останавливают. Что такое? Баденская пограничная стража. Как, мы не в Швейцарии? Сейчас опять там будем; мы должны проехать участок баденской земли. Но страж баденской границы нас не пропускал: у одного пассажира не было паспорта.
Пассажир оправдывался тем, что он швейцарец, едущий только в Аарау (нем. Aarau), и что правительство не выдаёт им паспортов для поездок из одного кантона в другой. Начальник пограничного отряда решил, что оправдание неудовлетворительно.
Вмешались другие пассажиры; начался шумный спор. Не имея нужды участвовать в нем, я впервые в жизни наблюдал, как начинается, как возрастает, доколе не заварится в споре самая бестолковая разноголосица. Для зрителя в этом есть трагикомическое наслаждение: никакое искусство не доведет стройной человеческой речи до подобной нестройности, доступной одним спорщикам-натуралистам!
Наконец мой сосед в дилижансе, безмолвствовавший дотоле, как и я, попросил меня вмешаться в дело: он полагал, что мое заступничество за швейцарца может иметь вес у баденской стражи. Я подозвал унтер-офицера и спросил, по какой именно причине он не пропускает швейцарца, который, в подобном случае, не может иметь паспорта?
- Потому, - отвечал он очень вежливо, - что я не уверен: точно ли он швейцарец? - Ужели вам мало его произношения? Мое простое, но довольно верное замечание несколько удивило швейцарца и заступников его, но и убедило унтер-офицера: нас пропустили. Мы проехали реку Аар (нем. Aare, фр. Aar) по живому мосту; немцы и французы говорят: летучий мост - название выразительнее нашего.
Вот развалины знаменитого замка Габсбурга (Schloss Habsburg построен: 1020-1030 гг.), родоначальника австрийского дома. Остатки восьмисотлетнего строения смотрят с горы, называемой the Wulpelsberg, у подошвы которой лежит Шинцнах (нем. Schinznach-Bad), водолечебница с минеральными водами.
Ничто не может сравниться с безмолвным красноречием разбитой временем колыбели королевского рода! Отец императора Рудольфа I , Альберт IV, граф Габсбургский был крестоносцем и оставил свои кости в этой земле. Если бы этот замок остался собственностью австрийских герцогов, то они, конечно, не допустили бы такого разрушения; но их родовая колыбель не принадлежит им уже как 150 лет.
Из потомков Рудольфа, Иосиф II посетил эти развалины; пораженный незначительностью замка Габсбурга, в сравнении с императорским замком в Вене, он воскликнул: - Итак, мы не всегда были великими, господа!
Эти развалины не представляют теперь никакого интереса: в королевской зале живёт сторож! Остатки башен ни чем не отличаются от руин; память о Рудольфе и мысль, о судьбе его дома - единственная поэзия этой развалины! Вероятно здесь, в романтических окрестностях замка, случалось прекрасное происшествие, воспетое Шиллером (Фридрих Шиллер. Граф Габсбургский), с графом Габсбургским, ставшее поводом к избранию его в короли, при сильном влиянии Римского духовенства, домогавшегося власти над верховным мирским повелителем.
Рудольф, в звании правителя нескольких Швейцарских областей, в то время осаждал Базель, за кровную обиду, нанесенную швейцарскому рыцарству.
Весть о столь неожиданном возвышении Рудольфа тотчас примирила воюющих. Какой энергией в действиях своих должен был славиться граф Габсбургский, и каким властолюбием дышала римская церковь, когда епископ Базельский, при этом случае, мог воскликнуть:
- Господи! вооружись своим всемогуществом и сиди крепко, дабы Рудольф не лишил тебя (т. е. папу римского) верховной власти! И эти слова были произнесены о человеке, который встретил однажды на охоте, в дурную погоду, священника, шедшего со Святыми Дарами к умирающему, уступил своего коня служителю алтаря, и после того, считал себя и всякого другого недостойным сидеть на коне, освящённом ногами служителя тела Господня!
Яркий свет этих развалин мрачно оттенён памятником другого рода: в виду Габсбурга зреется монастырь Konigsfelden (Königsfelden Monastery), сооруженный на том месте, где сын Рудольфа (Альберт), недостойный такого отца, был убит; где король германский испустил дыхание на руках нищей женщины! Это еще горше, нежели обрызнуть своей кровью на статую Помпея! А он имел своего Помпея - благородного Адольфа Нассауского, с которым разыграл Фарсальскую битву под Гелльгеймом, где и пал Адольф.
Жалкая смерть Альберта, в виду родительского замка, была только началом ужасной, отвратительной трагедии: виновники убийства спаслись бегством, а невинные родственники пострадали от яростной мести детей yбиенного! В особенности отличилась зверством дочь Альберта, венгерская королева Агнесса: обтекаемая кровью шестидесяти трех казненных рыцарей, она воскликнула радостно:
- Посмотрите: я купаюсь в майской росе! У ног ее слезно молила жена Рудольфа Варта о жизни своего супруга; безжалостная Агнесса велела его живого, с переломленными членами, колесовать и выставить на съедение воронам. Народ и палачи разошлись; под страшным глаголем, коленопреклоненная, молится и плачет супруга; умирающий утешает ее с колеса, доколе не пресекся голос его; и еще долго после смертного стона казненного, она молилась и плакала, под черной тучей слетавшихся и встревоженных ее присутствием плотоядных птиц.
Из похищенного имущества жертв, Агнесса выстроила этот монастырь, постриглась и, стоя у ворот, приглашала проходящих туда на молитву, но народ проходил мимо: один отшельник остановился и возопил: - Сестра! плохо твое служение Богу: твой монастырь основан на грабеже, на крови невинно убитых! Никогда язычники не мстили так безбожно - а эта гиена была внучка Рудольфа!
Отъехав уже далеко, я бросил прощальный взгляд на Габсбург; нашедшее облако заслонило солнце - руина, которая смотрела грустно на Konigsfelden и на весь свет!
Мне посчастливилось попасть в угловое место; но мой ближайший сосед был неимоверной толщины - и, садясь на своем месте в середине, чуть не раздавил меня. Он очень мило извинялся на счет своего дородства, объясняя, что всегда берет для себя два места, но в этот раз никак не мог получить более одного.
Он вообще обнаружил столько любезности, что все с легкостью простили ему его обременительную для всех толщину. Пассажиры заснули. Я еще бодрствовал. Толстяк обратился ко мне:
- Сделайте одолжение, последуйте примеру вашего соседа, усните также спокойно на моем плече с другой стороны.
- А как же вы?
- А я уйду в свою толщину, и, пребывая прям и недвижим, погружусь в сон нисколько не стесненный.
Я приклонился к его широкому и мягкому, как подушка, плечу, заснул и пробудился на рассвете. До Берна оставалась одна остановка. Я и сострадательный толстяк вышли из кареты отвести душу на вольном просторе и умыться у фонтана, у почты. Перед нами торчали снежные горы Оберланда, позлащённые зарей.
Я обратил внимание моего товарища на великолепное зрелище.
- Мне не до того, - возразил он: - в продолжение пяти лет, я беспрерывно в дороге, и во все это время, нигде и трех дней не проживал: я совершенно одурел и сделался бесчувственен как дерево. Теперь я, без остановки, должен ехать в Париж; оттуда в Брест, где тотчас сяду на корабль и поплыву в Америку! Через день, или два, по прибытии туда, я опять буду отправлен в Англию, не ужасно ли?
Положим, он сократил сроки своего отдыха; но право нельзя было, без сожаления, смотреть на этого человека, измученного путевыми трудностями. Одно из лучших наслаждений житейских - странствие по свету - становится танталовой мукой, если требует всегдашней курьерской быстроты!
Какое различие между двумя крайностями туриста и американского курьера! Сей последний лишился способности наслаждаться одним из волнительных зрелищ природы - этими живописными массами снежных Альп; а пустынник - я сам был им в продолжение нескольких лет, живя одиноко в неромантической пустыне - одухотворяется до того, что эта пустыня кажется ему раем!
Когда душа питается исключительно созерцанием природы, каждый нерв; каждое чувство обогащается новыми тончайшими органами, посредством которых постигаешь недостижимое для других. Открываются миллионы чудес и т. д...
В беглых словах, покуда мы умывались у фонтана, выводил я эти параллели, для контраста - и мой одеревенелый американец немало удивил меня замечанием, что он меня очень хорошо понимает, живши сам отшельником, в американской саванне.
- Желали бы вы еще раз испытать этот образ жизни, после всех ваших курьерских поездок? - спросил я.
- К чему столько счастья! - отвечал он: - с меня было бы довольно и одного успокоения, где бы то ни было! Вопль о покое - otium divos rogat - есть одно из самых патетических восклицаний человека.
Окрестности Берна чрезвычайно живописны: наблюдаешь разнообразие прелестных видов; весь край возделан и содержится, как сад. По гладкой дороге, по холмам и аллеям, среди какой-то милой, оригинальной группировки деревьев, по краю, вообще богатому лесом, или лучше сказать рощами, приближались мы к городу в тихое, теплое и ясное утро, которое пышным восходом солнца довершало очарование этой теплицы Швейцарских Гесперид.
Окрестности Берна чрезвычайно живописны: наблюдаешь разнообразие прелестных видов; весь край возделан и содержится, как сад. По гладкой дороге, по холмам и аллеям, среди какой-то милой, оригинальной группировки деревьев, по краю, вообще богатому лесом, или лучше сказать рощами, приближались мы к городу в тихое, теплое и ясное утро, которое пышным восходом солнца довершало очарование этой теплицы Швейцарских Гесперид.
Через шумный Аар въехали мы в нижние ворота и остановились в гостинице (Hotel Des Gentilshommes). Небольшой канал, проведенный посреди улицы, аркады, по обеим сторонам - первые предметы, влекущие внимание приезжего. После короткого отдыха, я за раз обошел весь город; он везде одинаково хорош каменными зданиями.
Построенный в двенадцатом столетии, он, как городской рыцарский замок, укрепленный природой и архитектурой. Глубоко врывшийся в землю Аар обтекает его, за исключением небольшого промежутка, широким и недоступным рвом, нанося собой возвышенную площадку, окруженную холмами. Градостроительство протянуло по этому промежутку бастионы, неодолимые для огнестрельного оружия.
Беспрестанно умножалось число жителей; образование и торговля процветали, и Берн почувствовал себя в силах бороться с завистью собственного своего рыцарства во многих швейцарских городах. Могущество его утвердилось победой под Лаупеном (1339); неприятельское войско, под начальством семисот знатных господ с короной (графской, или баронской) на шлемах в тысячу двести рыцарей, сломалось от ударов малочисленной толпы героев, предводительствуемых Рулольфом фон Эрлахом.
Берн с честью вышел из продолжительных войн с Австрией, Миланом, Бургундией и Савойей и возвысился до могущества; но, утратив в богатстве геройский дух, прославленный под Моргартеном, Лаупеном и Муртеном и, вдобавок, запятнав себя злодейским убийством своего военачальника - тоже Эрлаха - девственная столица кантона, к которой, в слабую юность ее, безуспешно приступал Рудольф Габсбургский, в первый раз уступила власти врага: французы заняли Берн в 1798 году.
Любимым местом моего отдохновения и моей созерцательности сделалась галерея, подле собора, терраса, с аллеями величественных каштановых деревьев - царство свежести и прохлады, со всеми удобствами для сладостной лени: в каждой аллее двойной ряд скамеек; впереди, на платформе, по углам, две кондитерские.
Здесь всегда множество народа. С этой террасы, возвышающейся почти на 100 метров над берегом Аара, который чуть ниже образует шумный и широкий водопад открывается самый восхитительный вид на исполинские Альпы бернского Оберланда. Я невооруженным глазом мог различить, в этой громаде гор, передовую цепь, из-за которой подымается линия главнейших Альп, будто блистательный двор их девственной царицы Юнгфрау, первенствующей возвышенностью и величием.
Уже товарищи мои по рейнскому водопаду, представляли меня этой царице гор, с того возвышения, откуда впервые увидел я Альпы; но она терялась вдали, и на том плане царствовал ближайший Сентис. Во второй раз, мне ее указал чичероне с башни Бернского собора - и там-то она меня привела в восторг. Я отослал проводника, не желая делится с ним минутой поэтического вдохновения, в которую, признаться, я был опять очень молод сердцем...
Усмехаюсь, вместе с вами, этой поэзии! Как и прежде, в первой юности моей, на каждом балу, из всех молодых очаровательниц, мне всегда нравилась лишь одна, - так и теперь, из всех Адьп первого разряда, видел я только одну Юнгфрау. Дивное Божье создание! Не одним своим естественным величием, но и мистической прелестью своего имени - Девы - ты меня очаровываешь до того, что с ледяного венца твоего веет на меня твоим жаром и пламенем.
Чудная тройственность на земле, в поднебесье и на небе. Вот троеобразная Диана, которую предугадывал баснословный лепет древности! В детстве, задолго до пробуждения сердца, мне в особенности нравилась дева-созвездие; она казалась моей ровесницей - милой девочкой десяти лет, в дымчатом покрове, с золотым колосом в кудрях - главными атрибутами астрологии.
Детское пристрастие переросло в юношескую страсть к деве-женщине, и при виде девы-горы… Юнгфрау оправдывает поэтический сон моей души! Так и должно было быть: дитя мечтой парит в небе; юноша горячим сердцем припадает к земле; а муж, должен быть твердым между двух крайностей, дабы не утратить того, что есть праведного в мечтах детства и юности - мысленно стоять на вершине Юнгфрау: она равно принадлежит небу и земле. В поднебесье, но на твердом основании земли, всего достойнее совершается юдольное назначение человека.
Я сошел на террасу. Отсюда можно рассмотреть Юнгфрау, также хорошо как с башни. Я с нетерпением стал ожидать вечера: ясная погода и чистый прозрачный воздух обещали одно из тех чудесных зрелищ, которые представляет снежная громада гор, на заходе солнца.
Этот отрывок вечной зимы придает зеленому живописному ландшафту особенную занимательность; простому уму нравится сближение двух противоположных времен года, мыслящий видит в той громаде важность жизни, посреди милой игривости и беспечных веселий идиллического быта. Сельский характер Швейцарии вполне выражается на этой террасе: точно идиллия!
Под сенью дерев сидят мужчины, читают газеты, курят трубки; женщины и девушки разговаривают вполголоса; там сидит красавица с молодым мужем, или с женихом, и они перешептываются; дети бегают по аллеям, резкими криками оглашают сцену многолюдной эклоги. В гранитные перила террасы вставлена мраморная доска с чудной повестью, что какой-то студент, в 1654 году, здесь вместе с лошадью упал в ужасную бездну, но уцелел, и после жил еще сорок лет, долгое время проповедуя.
Вот как рассказывают это событие: студент был шалун, увидел привязанную подле собора дикую лошадь, сел и неукротимый конь понес его и, в слепом порыве, перескочил через перила в бездну: ездок очнулся там живой, на размозжённом коне! Шалун образумился и посвятил себя служению богу. Это чудо можно объяснить, но все же - это чудо, потому, что из тысячи падений с такой высоты едва ли одно будет столь счастливое: упругость одного тела спасает другое!
Я вспомнил о римском воине, который, при осаде Иерусалима, находясь на объятом пламенем бастионе, мог выбрать только из двух смертей: или кинуться в огонь, или спрыгнуть вниз и сломать себе шею, подобно его товарищам. Римлянин спасся хитростью: он увидел внизу приятеля, поклялся ему, что откажет ему все свое имущество, если тот подхватит его и уцелел, задавив до смерти нерассудительного охотника до наследства.
Военный марш нарушил мирную идиллию на террасе: по улицам проходил военный отряд. Двое швейцарцев, рядом со мной, завели политический разговор; они тешили себя надеждой, что времена славы для них не прошли, перечислив все победы своих предков от Дивикона до наших дней.
Я заметил им, что они пропустили один из лучших своих подвигов - фермопильский бой в саду св. Иакова, под Базелем, где все швейцарцы полегли на месте, за исключением десяти, как-то спасшихся и тем заслужившим презрение всей Швейцарии (Битва при Санкт-Якобе на Бирсе, 1444 г. (нем. Schlacht bei St. Jakob an der Birs). Эта битва стала символом швейцарской воинской храбрости, противопоставленной численному превосходству противника: в национальном гимне Швейцарии Rufst du, mein Vaterland, который был гимном страны до 1961 года, упоминались слова о сражении при Санкт-Якобе-ан-дер-Бирсе).
Они посмотрели на меня с удивлением, обнаружив во мне иностранца; а я все равно продолжал: - Св. Иаков и для нас иностранцев столь памятен потому, что там, после сражения, случилось удивительное событие, достойный финал ваших фермопил. Рыцарь Буркхардт Мюнх, проезжая с товарищами через мёртвые тела швейцарцев - врагов своих - не устыдился изъявить гнусное злорадство, воскликнув:
- Теперь я купаюсь в розах! Из мертвых - правильнее, из смертельно раневых швейцарцев, раздался, в ответ возглас, капитан Арнольд Шик из Ури, возопил: - Ешь эту розу! И камнем убил наповал рыцаря - умирающий не смог умереть без этого подвига мести! - Вы хорошо знаете нашу историю, - произнес один: - но ужели вы предрекаете нам другие фермопилы?
- Я не судья ни вашей истории, ни ваших распрей с Францией; но мне кажется, что, в нынешних обстоятельствах, св. Иаков гораздо вероятнее, нежели Муртен! Впрочем, св. Иаков - блистательное дело в воинской славе, которое, впоследствии, оказалось победой: удивленный дофин примирился с вами на геройских телах ваших братьев!
- Мы сумеем умереть, как наши предки! - А лучше живите, господа, на своей прекрасной земле! Дело не дойдет до драки - французский король, во всяком случае, вспомнит свою профессуру в Швейцарии (Последний "король-гражданин" Луи-Филипп I в молодости жил в Швейцарии, в числе прочего преподавал географию и математику). Мои собеседника улыбнулись, и, прощаясь со мной, пригласили к себе выпить чаю.
Я извинился тем, что в эту ясную погоду уже дал слово быть у Юнгфрау на блистательном вечере.
Еще оставался час до захода солнца; и нетерпение мое возрастало. Наконец солнце село. Альпийский снег блестел ослепительной белизной. И пока сумрак стлался по долине, яркий свет стал тускнеть, и вершины гор оказались в матовом серебре, которое постепенно покрылось легким цветным туманом - и сделался какой-то томный розовый цвет, невыразимой мягкости и прелести.
Я не знаю ни одного явления в природе, которое представляло бы малейшую возможность сравнения с этим таинственным румянцем царственной Юнгфрау и ее Альпийского двора. Заря являет тысячу различных оттенков, но ни один не походит на этот чудесный колорит, который становится ежеминутно еще мягче, еще полнее внутренней жизни.
Только естествоиспытатель, спокойный и холодный, может ловить одними глазами это природное диво; у всякого другого невольно разыграется фантазия - кольми паче у стиходея, яко аз грешный! Мне представлялось, что незримый для нас, но зримый для ЮнгФрау, Монблан кинул на нее пламенный взор и - Юнгфрау смутилась, и смущение это отражается на светлых ликах ее царедворцев.
В виду открытых перед нею таинств эмпирея, она не может краснеть, как земная дева... или может: представьте себе, что эта последняя, у гроба отца или матери, или в другой торжественный момент, когда она дышит одной великой мыслью о Небе, - нежданным объяснением юноши посвящается в невесты... тогда румянец ее, вероятно, имеет сходство в колоритом Юнгфрау.
Не отвечая Монблану, но полная его любовным взглядом, она, и весь окружающий ее собор, в румянце глядит в небеса; разделяющее их пространство со всеми горами их, обрушится в хаос, и Юнгфрау и Монблан, над пропастью мира падая величественно в объятия друг к другу, чудным метеором исчезнут в преставлении света.
Но какая быстрая, ужасная перемена - Альпы устрашались мысли всемирного разрушения! Свет жизни внезапно погас; сию минуту еще озаренные таинственным блеском Неба, они вдруг помертвели, как тени, и являются собранием поставленных стоймя исполинских трупов, гробовая бледность которых становится еще грустнее от могильного мрака в долинах.
На минуту я закрыл глаза, уставшие от напряжения; вот я опять взглянул; все исчезло в темноте! В ту минуту мне показалось, что уже не может быть возвращения света; что последний остаток погас на тех высотах; что Альпы, как последние бойцы истребляемого легиона героев, пали под мечом духа тьмы!
Самая глубокая грусть имеет дно, где погрузившийся дух находит, подобно утопающему, точку опоры и быстро всплывает на поверхность: так и моя душа от мрачных картин смерти снова вознеслась к поверхности света и жизни! На небе засияли звезды; в Берне зажигались огни; кареты торопливо дребезжали по улицам; Аар шумел под запоздалые звуки пастушьего рожка и коровьих колокольчиков, на соседних высотах.
Осталась жизнь, хотя и Юнгфрау погасла; хотя и ретийские младенцы были расшиблены о железные доспехи римлян, и жизнь останется навсегда, и первообраз бесконечности ее будет всего живее над развалинами мира!
При невозможности побывать в Оберланде, я на другое утро хотел съездить, по крайней мере, в Тун (нем. Thun), погулять по озеру; но день был туманный, и я отправился в селенье Хиндельбанк (нем. Hindelbank), полюбоваться на церковь, знаменитое произведение скульптора Наля (нем. Johann August Nahl).
При невозможности побывать в Оберланде, я на другое утро хотел съездить, по крайней мере, в Тун (нем. Thun), погулять по озеру; но день был туманный, и я отправился в селенье Хиндельбанк (нем. Hindelbank), полюбоваться на церковь, знаменитое произведение скульптора Наля (нем. Johann August Nahl).
Не доезжая до Хиндельбанка, по правую сторону от него, высится будто страж, замок славной старинной фамилии Эрлах, которая за свободный пропуск к себе требует сперва дани уважения к ее великим заслугам. Этот воинственный род был героем Лаупенской битвы; сподвижником и другом Густава-Адольфа и Бернарда Веймарского, в тридцатилетнюю войну, и принца Евгения Савойского; мучеником отечества и, наконец, литератором и поклонником славы нашей Императрицы Екатерины II.
Иероним фон Эрлах, который служил при Евгении Савойском, приобрёл Хиндельбанк и там умер. Его сын захотел соорудить ему пышный памятник, в сельской церкви, и для того призвал славного скульптора Наля. Художник покорился выдумкам вельможи, не имевшего никаких об искусстве понятий - и создал монумент, в котором роскошное невежество убивает поэзию. В самом деле, что это такое?
Огромный мраморный памятник занимает почти всю церковь, бедную, небольшую: роскошь мрамора будто насмехается над патриархальным целомудрием храма! Разноцветный мрамор, тщательная отделка, но великолепие бестолковое, беспорядочное, чуждое всякого вкуса и всякой изящной идеи. Трудясь для денег, Наль утешался только дружбой тамошнего пастора и дивной красотой молодой жены его: он жил у них в доме.
Красавица умерла первыми родами. Между тем как неутешный супруг терялся в бесконечности своего несчастия, благородный художник возымел мысль обессмертить прекрасную своим резцом и отомстить Эрлаху за уничтожение искусства. Не на что купить мрамор; нет нужды: он возьмет простой камень окрестных гор! Отпечаток гения облагородит и простейшую материю!
У входа в церковь, подземелье, покрытое досками; сняв две-три доски, является могила, возвращающая свою добычу в день Суда.
У входа в церковь, подземелье, покрытое досками; сняв две-три доски, является могила, возвращающая свою добычу в день Суда.
Надгробный камень растрескался; воскресающая, с милым у груди ее еще тихо спящим младенцем, матерь в благоговейном восторге встречает вечную жизнь и Спасителя. Какая простая, но и какая смелая, трудная для исполнения идея, и как мастерски выполнена! Друг-художник хотел утешить друга-пастора в его величайшей скорби, способной поразить человека. Незабвенная представлена во всей красоте своей, осиянная вечностью... красота, прошедшая через смерть к лучезарной жизни.
Мысль превосходная! Художник, уловил первый таинственный момент, после кончины, и дохнул на свое создание истиной евангельской. Как хорошо постиг он единственный способ олицетворить подобную идею! Быть не может, чтобы скорбный супруг не утешался, глядя на это изображение скошенного смертью цветка, расцветающего вновь из недр могилы! Тут все - жизнь и блеск, истина и любовь - любовь материнская, которая и в могиле не отдавала младенца из своих рук!
Всякое горе земное должно умолкнуть перед столь живым порывом к светлой вечности. И первый поразительный эффект оказывается постоянным, непреходящим! Стоишь перед могильным камнем, и будто слышишь зовущий глас Неба, видишь воскресение мертвых; земля бежит от ног твоих, и рвешься туда, где Слава в Вышних! Неоцененное сокровище в собственности бедной сельской церкви!
Самый великолепный на свете музей не имеет ничего подобного! Как благородно, но и как немилосердно, Наль отомстил за оскорбление искусства! Бедный Эрлах! ты здесь потерпел поражение, чувствительнейшее, нежели муртенское, для Карла Смелого. Бриллианты редкой величины, найденные в обозе герцога Карла Бургундского, достались папской тиаре и королевской короне Франции; но изваяния Наля Швейцария не должна отдать и за все сокровища Лувра и Ватикана!
Целый день гулял я по окрестностям Берна с этим священным памятником в душе; милая, разнообразная природа; мирные, трудолюбивые люди, все это наводит какое-то тихое, светлое умиление; чувствуешь себя отрешенным от земной суеты, возвращённым к простым, чистым, тёплым чувствам, и широко распахнувшееся сердце дышит живой любовью ко всему человечеству!
Однако, в таком расположении духа, нельзя достойным образом оценить хранящихся в Берне военных снарядов и трофеев. Вот я и не буду о них говорить, тем более что завтра проеду через Муртен: там приличнее вспоминать о ратных подвигах Гельвеции. В продолжение этого дня, Альпы Оберланда были покрыты туманом, и я, вернувшись на террасу, никак не ожидал нового поразительного вида, который они мне приготовили под вечер. Мгла пришла в движение, и начала расстилаться густыми массами.
В одну минуту явилась чудная декорация: туман, севший облаком на вершинах всей передовой цели Альп и спустившийся по темным ущельям обозначил край горизонта, из-за которого, на значительном расстоянии и неизмеримой высоте, будто рисунок на небе, или явление другого мира показался второй ряд ретийских Альп. Юнгфрау и ее двор вознеслись от земли, и прежде, чем исчезнуть за голубой завесой вечности, с поднебесья еще показываются земли в своем преображении...
Невыразимая таинственная прелесть! Дивная белоснежная сцена, не теряя своего небесного вида, постепенно исчезла в возрастающем сумраке.
II.
МУРТЕН И АВАНШ
(фр. Avenches; фр. Morat)
В жаркий полдень выехал я из Берна, в Лозанну, в необыкновенно пышном дилижансе, и в отборном обществе пассажиров. Я успел вовремя записаться на первое место в карете. Подле меня сидела молодая француженка, чрезвычайно похожая портрет писательницы Жорж Санд. Я сначала подумал: не она ли, в самом деле? но вскоре заметил, что скромное, благонравное обращение ее отнюдь не согласуется с идеей о той оригинальной особе.
II.
МУРТЕН И АВАНШ
(фр. Avenches; фр. Morat)
В жаркий полдень выехал я из Берна, в Лозанну, в необыкновенно пышном дилижансе, и в отборном обществе пассажиров. Я успел вовремя записаться на первое место в карете. Подле меня сидела молодая француженка, чрезвычайно похожая портрет писательницы Жорж Санд. Я сначала подумал: не она ли, в самом деле? но вскоре заметил, что скромное, благонравное обращение ее отнюдь не согласуется с идеей о той оригинальной особе.
Впоследствии оказалось, моя милая соседка хотела, чтобы я, из вежливости, уступил ей свое спокойное угловое место. Нет еще - подумал я: - заслужи сперва эту уступку любезностью! Нелегко будет мне сидеть между двух дам; толкаться между Сциллой и Харибдой! При невольном, неизбежном прикосновении к одной, я ведь могу спасаться только стенкой кареты. Два кавалера, сидевшие супротив нас, впереди, сопровождали эту даму: муж, незавидной наружности, и друг обоих, молодой красавец, очень любезный в обращении.
Этот последний начал, было со мной разговор; но ответы мои были так сухи, так малоободрительны к поддержанию беседы, что дама лишилась всякой надежды на мое место. На вопрос ее мужа: - Etes-vous bien assise, ma chere? - она ответила с кисленькой улыбкой и косым на меня взглядом: - Il faut s'arranger de son mieux! Я прижимался к своему углу, будто не понимаю этих кислых и косвенных требований.
Просто я не хотел знакомиться, желая быть наедине со своими мыслями - и со Швейцарией. Вам такое расположение духа покажется странностью, да и я вам признаюсь, что соседка моя была премилая, со стройной осанкой, и благородно прекрасным лицом. Продолжительное молчание мое вдруг прервалось восторженным возгласом: - Voila le lac de Morat! (Муртенское озеро)!
Дама и ее кавалеры посмотрели на меня; а я, досадуя на себя за этот невольный порыв энтузиазма, спрятался опять в холодную, неприступную задумчивость. С этой минуты я сделался для них любопытен.
Наконец в Муртене, где мы выходили из кареты, сошли два пассажира, мне оказал вежливость предложением сигары муж моей милой соседки, я решил уступить ей мое место в карете, что и исполнил просто, без всякого угодничества. Я вошел первый в карету и занял, впереди, угловое место одного из сошедших пассажиров; входящая за мной соседка безмолвным удивлением вопрошала меня о причине перемещения; я отвечал, на словах, что мне все равно, где сидеть, лишь бы не на прежнем месте; и что она может занять мое, если угодно.
Она воспользовалась предложением, но в глазах ее был вопрос: отчего я теперь сделался так вежлив? Я отвечал таким же говорящим взглядом: - От того, что мне приятнее глядеть вам в глаза, нежели толкаться с вами!
В Муртенe я убедил кондуктора остановиться на знаменитом поле битвы (битва при Муртене - одно из самых значительных сражений Бургундских войн. Произошло 22 июня 1476 года около крепости Муртен (фр. Morat) в кантоне Берн между швейцарскими войсками и армией бургундского герцога Карла Смелого. Закончилось убедительной победой швейцарцев), хоть на полчаса. Мы остановились у обелиска победе.
Кондуктор пригласил нас выйти, коснуться нашими стопами земли священной битвы: он хорошо вытвердил заданный ему урок.
- On est ben patrioque ici! - пробормотал муж нашей дамы, а приятель их примолвил со вздохом:
- Так здесь-то гибли наши бедные соотечественники!
- Слава Богу, - воскликнула дама, - что французы уничтожили этот ужасный склеп из костей (cet horrible ossuary), этот отвратительный трофей швейцарцев!
- Извините, сударыня, - возразил я: - французы поступили нехорошо! С памятниками подобного рода должно поступать, как поступили русские в Париже с Аустерлицким мостом: великодушие Императора Александра затмило память и солнце Аустерлица; а поступок французов уничтожившими склеп с костями еще больше возвысил значительность Муртенской битвы (потери бургундского герцога составили от 6 до 8 тысяч убитыми.
В том числе полегло и много наёмных английских лучников). Исход битвы есть дело судьбы; но действия малодушной злобы - наш собственный грех, за который нас справедливо порицают! Красавиц-приятель со мною согласился, извиняя этот поступок французов несчастным периодом, в который он случился, в 1797 году (7 декабря 1797 года Наполеон Бонапарт прибыл в Париж).
Заступничество друга семьи подействовало в мою пользу: красавица нахмурилась было, но не стала гневаться за мое противоречие. Обелиск сооружен на том месте, где прежде был памятник из костей и черепов убитых бургундцев. Мы прошли около ста шагов вперед по дороге, туда, откуда всего удобнее видеть поле сражения. Бросим беглый взгляд сперва на политические обстоятельства того времени.
Французский король Людовик XI, еще будучи дофином, столкнулся со швейцарской храбростью под святым Иаковом; цесарь имперский и изгнанный герцог Лотарингский, Ренат - побудили Швейцарский Союз к войне против общего, для всех опасного врага, - Карла Смелого, Наполеона тех времен, но в меньшем масштабе.
Французский король Людовик XI, еще будучи дофином, столкнулся со швейцарской храбростью под святым Иаковом; цесарь имперский и изгнанный герцог Лотарингский, Ренат - побудили Швейцарский Союз к войне против общего, для всех опасного врага, - Карла Смелого, Наполеона тех времен, но в меньшем масштабе.
Карл, искусный политик, брачными общениями, за счет своей единородной дочери, обманул цесаря и короля, с ними помирившись. Швейцарцы, казалось, были выданы с головой сильному врагу. Они посылали послов умилостивить его: но он хотел пройти по Швейцарии с убийством и грабежом! Они уверяли его, что все то, чем мог бы он поживиться в Швейцарии, не стоят золотых шпор его рыцарей!
Он был неумолим, горя нетерпением выместить на них всю свою губительную злобу. Судьба определила иначе: малочисленные конфедераты разбили его под Грансоном. Взбешенный Карл собрал другое войско, сделал ему смотр с такими же надеждами, как Наполеон на русской границе, и устремился в Муртен; где стоял гарнизон в шестьсот человек, под командованием рыцаря Адриана фон Бубенберга.
Городское укрепление: каменная ограда с башенками! Как ей устоять против тяжелой артиллерии герцога Бургундского, покуда зажжённые на горах сигнальные огни созовут пастухов к битве. Но гарнизон и жители присягнули защищать город до излияния последней крови - и отстояли Муртен! Рать конфедератов подоспела, и главной битвой должна была решиться судьба их отечества. Швейцарцы расположились на горе, позади Бургундского лагеря.
Герцог выступил навстречу врагам, признал недоступным расположение их по местам лесистым и, прождав несколько часов в бездействии, под сильным дождем, воротился в лагерь, с промокшим порохом и ослабшими у луков тетивами. При этом движении герцога, все швейцарское войско пало на колени, моля Всевышнего о победе и спасении отечества.
Умилительное зрелище целого народа, на молитве за отечество, да еще народа столь бедного, что все его имущество не стоит золотых шпор бургундских рыцарей. Явилось небесное знамение: облачная завеса внезапно разорвалась, и солнечный проблеск озарил молящихся.
Герой Грансонский, Ганс Гальвиль, воскликнул: - Посмотрите, братья: Господь хочет светить нам к победе! Швейцарцы возрадовались и устремились вперед, при боевых кличах:
- Грансон! Грансон! Явилось второе знамение: впереди швейцарского войска бродила стая горных псов, сопровождавших каждый своего владельца-пастуха на войну.
На том возвышении, откуда герцог отступил от дождя, стая эта яростно кинулась стаю охотничьих бургундских собак, перегрызла и преследовала ее до неприятельского лагеря. Такое пред игрище победы воспламенило еще более мужество конфедератов: душа человеческая, во всякое время - в особенности же перед великой опасностью - готова верить в любое предзнаменование.
Поражение при Грансоне совершенно омрачило буйную душу Карла Смелого; с тех пор стал ему являться в лагерной палатке темный гений его, и он колебался в доверии даже к самому себе, горя адской злобой, и ломая все, что ни попадётся ему под руку. Но, не смотря ни на что, он был еще горд и полон величия своего гения, что и во сне не предвидел наступления врагов.
Когда ему доложили, что Швейцарцы атакуют лагерь, он отказался в это верить и, в бешенстве, ударил вестового. Появление раненого рыцаря образумило Карла; он торопливо надел шлем, перчатки, и вскочил на коня. Ему заметили, что он забыл свой меч.
- Так и не надо меча! - возопил он и, указывая на огромную железную палицу, подвешенную к седлу, добавив: - Вот чем я буду бить этих животных!
С двух сторон, конфедераты ворвались в его лагерь его; храбрый Гальвиль завладел его орудиями, повернув их на врага. Туда кинулся герцог и своей страшной палицей восстановил ненадолго равновесие битвы. Но Швейцарцы одолевали его на других участках; вылазка Бубенберга и атака герцога Лотарингского - Рената - с тремястами конников, решили общее бегство Бургундцев.
Карл едва спасся бегством, а войско его пало под беспардонным швейцарским мечом, от Муртена до Аванша. Бич народов, неукротимый Карл, был вскоре уничтожен навек, после того, как сложил свою буйную голову под Нанси.
Каждый раз в добродетельные времена, когда немощная с виду земелька находится на краю бездны - решительно каждый раз за нее сражается меч Провидения! Даже тогда, когда юношество конфедератов продавало свою храбрость чужеземцам и сражалось не на родной земле; какая-то чудная фортуна не покидала их, даже при самой страшной неудаче: вспомним битву при Мариньяно.
Швейцарцы дрались против 15000 французов - и отступали с честью. Сами французы могли при поздравлении их с победой, воскликнуть с царем Пирром: - Сохрани Боже от подобной победы: еще одна такая, и мы пропали!
Скоро мы доехали до Аванша - римского Авентикума - миновав древнюю городскую стену, которая пролегает живописной развалиной, заросшей кустарником. Я увидел одинокую колонну исчезнувшего храма - на этот занимательный след римского владычества, во время которого Авентикум был огромный, и лучший во всей Гельвеции город.
Он доходит, как утверждают, даже до Муртенского озера и считается родиной двух римских императоров: Beспасиана и Тита. Первый, в особенности, любил Авентикум, украсил его пышными храмами, и велел своему сыну Титу переселиться туда, с колонией отборных воинов, и назвал город Союзной Колонной, Флавианской, верной, постоянной, благочестивой.
Вот все, что, при виде этих развалин, занимает мысли путешественников, и немногие знают лучшую черту в истории Авентикума, повесть о бедной Юлии Альпине - или Альпиночке (Alpinula), как она сама называлась в своей эпитафии. Я ждал, не заговорят ли о ней мои французы, люди довольно образованные, особенно друг-красавец; но они толковали только о Beспасиане и Тите.
Я обратился к их милой спутнице и произнёс с чувством глубокого уважения к прекрасному полу: - Аванш прославлен горячностью чувств, героизмом и священной смертью одной женщины!
Меня попросили рассказать эту повесть и я ее рассказал: - Гедьветы еще не знали о трагической кончине императора Гальбы. Римский наместник собрал, второпях, голоса в пользу Авла Вителлия (Всаднику). Знатный старец Авентикума, Юлий Альпин, велел своим соотечественникам остаться верными Гальбе, по данной ему присяге.
Гельветы его послушалась и тем вызвали кровожадный гнев наместника Вителлия, Авла Цецины. Он требовал выдачи Альпина: других же предоставил, по словам Тацита, милости или жестокости Вителлия. Альпина выдали.
Здесь я остановил рассказ и, обратясь к другу семьи, от которого слышал несколько латинских слов, повторил, с ударением на последнее слово: - Альпина выдали! Но точно ли выдали его Гельветы? Vercingetorix deditur, arma proiciuntur (т. е. Верцингеторикс выдан, орудия бросают), говорит Цезарь о вашем благодушном Верцингеториксе; но дело происходило иначе, как повествует ваш историк галлов, Амедей Tиарри, ссылаясь на Плутарха и Диона Kacия.
На своем прекрасном коне, в ратных шпорах, самой богатейшей воинской сбруе, Верцингеторикс выехал из города (Алезии, ныне Ализа) и проскакал расстояние между обоих лагерей до того места, где восседал Проконсул (Цесарь). По быстроте езды, или, по обычному церемониалу, совершив вольт около трибуны, он соскочил с коня, и каску, меч и копье свое бросил к ногам Цезаря, не произнося ни слова.
Это неожиданное действие знаменитого галла, внезапное его появление, его высокий рост, его величавый вид невольно поразил всех зрителей. Цезарь был изумлен, почти испуган; потом разразился упреками, и предал его в руки ликторов. Его связали и повлекли в лагерь. Верцингеторикс и тут благородно безмолвствовал.
Наместники, трибуны, центурионы, даже простые воины были живо тронуты столь великим и благородным зрелищем. Оно умилило их сердца; только один Цезарь остался холоден и суров. Цезарь не мог не понимать, что этот защитник отечества сейчас выше его, алчного завоевателя чужой страны. Но было и другое обстоятельство: Верцингеторикс лишил Цезаря меча в битве, мог бы и убить его, но пощадил в нем бывшего друга и благодетеля. Этот то невообразимый подвиг и скрывался под личиной бездушной суровости.
Я обратился к нашей красавице: - Не сердитесь, сударыня, за столь нужное и длинное отступление, я продолжаю:
- У старца была дочь, молодая девушка чудной красоты - жрица городского божества. Смелая героизмом дочерней любви, дева, оставленная своими соотечественниками, пошла одна в лагерь римлян - умилостивить грозного Цецину. Она не знать не знала, как опасен для нее этот Цецина - красавец-юноша, неукротимого духа, оратор (таким его описывает Тацит). На коленях пред юношей, она с доказывала невинность своего благородного старца, клялась, в его преданности Риму. Ей отвечали, что, за ослушание, закон требует пролития его крови.
- Казните меня; я кровь его, я его дочь - Юлия Альцина! Утолите свой закон моей кровью! Красота дочерней любви и величия души, в нежном образе юной девы не тронула грубого римлянина, видевшего в ней лишь красоту запретную, именно по жреческой повязке - Весталку Гельвеции! Он велел удалить дочь и казнить отца!
Эти простые, но тяжелые своим содержанием, исторические слова поражают воображение: оно принимается изображать предсмертное прощание отца с дочерью. Но здесь, от бесконечного простора, от излишней воли фантазии, изображения ее остаются как-то неопределенными, в зыбких чертах, а сердце наше требует чего-то твердого, определенного.
В подобных случаях, моему воображению тотчас представляется какая-нибудь аналогичная историческая картина, (mage correlatve): так предсмертное прощание Юлии Альпины со своим отцом рисуется мне в прощальной сцене Томаса Мора с дочерью Маргаритой... Из Вестминстера вели Мора пешком назад в Башню (Tower); перед ним несли топор, лезвием к нему обращенный. На башенной набережной, дочь его Маргарита, сквозь алебарды и секиры стражи его, кинулась к нему и повисла на его шее, произнося только слова:
О, родитель мой, о, родитель мой! Мор благословил ее и сказал ей, что смерть его должна совершиться с безусловной покорностью. Маргарита удалилась было; но, отошедши лишь несколько шагов, обернулась вдруг, пробилась сквозь толпу, уже слившуюся за нею и опять кинулась целовать отца, при горячих слезах. На этот раз, твердость узника не устояла: он заплакал.
В эту минуту, вся толпа зрителей, и самая стража, была поражена мучительным умилением; кругом раздавалось лишь общее всхлипывание! Наконец стража отторгла Маргариту от груди Мора. Маргарита пережила своего отца, но иначе случилось с Юлией Альпиной; смерть отца была и смертью дочери!
- Ее казнили вместе с ним?
- Нет!
- Она прибегнула к произвольной смерти?
- Нет!
- Отчего же она умерла?
- От разбитого сердца! Этот факт может свидетельствовать о сокрушительной силе ее страданий; но в надгробной надписи своей, найденной около двухсот лет назад в Аванше, она рассказывает свою повесть просто, с покорностью судьбе:
Здесь я почию - Юлия Альпина -
Несчастная несчастием отца -
Священица богини Авестийской...
Я не могла мольбой его спасти:
Его судьба была неумолима!
Я в двадцать лет свершила жизнь свою.
Слушатели мои казались довольными этим рассказом. Мне захотелось погулять по городу. Память об Юлии уничтожает занимательность древних развалин: все в природе вещественное затмевается, когда душа человеческая проглядывает в своем блеске. Около часа скитался я без цели, смотрел, но не видел ничего занимательного.
Один проводник вызвался показать мне остатки амфитеатра и римский водопровод. Я спросил, знает ли он, где найден могильный камень Юлии Альпины. Он впервые слышит это имя. - Так мне и не надо твоего амфитеатра и водопроводов: ты не годишься в чичероне!
- Мне не нужно знать того, чего не спрашивают путешественники, - отвечал он. - Странно: подумал я, - что путешественникам неизвестна особа, которой знаменитый Чайльд-Гарольд посвятил две столь блистательные строфы в своей III песне!
Печальная физиономия чичероне побудила меня дать ему франк; но чтоб это не показалось ему милостыней, я присовокупил условие. Рассказав ему в пяти словах, в чем состоял подвиг Юлии, я вменил ему в обязанность напоминать о ней каждому путешественнику, в особенности, каждой путешественнице, которым он подвернётся; а если кто-либо из них обнаружит свое незнание, то отвечать с изумлением:
- Quoi? L'illustre Byron l'а pourtant glorifiee dans son immortel роemе de Childe-Нarоld! Я тут же, на лоскутке бумаги, написал карандашом содержание 67 строфы III песни: Voila des traits dont la memoire devrait etre eternelle etc... (Вот черты, память которых должна быть вечной и т. д)… Я велел ему вытвердить эти слова. С благодарностью он взял написанное, обещал свято исполнять и примолвил с улыбкой: - Мне же будет лучше: cela me donuera du relief!
От Аванша до Пайерна в окне мелькали такие же прекрасные места, какими любовались мы от Муртена до Аванша. Пайерн (Payerne) или Петердинген - местечко незначительное, но славится, как родина Жомини (фр. Antoine-Henri Jomini) и бывшая резиденция какой-то бургундской королевы Берты, старинное и модное стремя которой (она была охотница до верховой езды) хранится доныне в тамошней церкви.
От Аванша до Пайерна в окне мелькали такие же прекрасные места, какими любовались мы от Муртена до Аванша. Пайерн (Payerne) или Петердинген - местечко незначительное, но славится, как родина Жомини (фр. Antoine-Henri Jomini) и бывшая резиденция какой-то бургундской королевы Берты, старинное и модное стремя которой (она была охотница до верховой езды) хранится доныне в тамошней церкви.
Однажды Берта, прогуливаясь верхом, в тоже время пряла. Премилое сочетание мужского дела с женским рукоделием! Прялка в седле - лучшая поборница дамской верховой езды! Но может ли женщина на коне прясть (peut-on filer en chevauchant)? И, если найдется такая мастерица-амазонка, то будет ли она прясть ровно?
Такие и подобные вопросы возникали между нами. Наша соседка не могла разрешить эти сомнения, признавшись, что никогда не ездила верхом и также мало знакома с прялкой. Тогда мы решили, что следует просто поверить рассказу: если мадам Берта пряла, прогуливаясь верхом, то, верно, пряла хорошо и ровно. Мне не понравилось признание нашей миленькой соседки, в том, что она никогда не пряла.
- Как различен у каждого народа вкус, - заметил я ей: - мы, Северяне, так же хорошо, как и Французы, понимаем прелесть умной дамской беседы; мы проводили бы вечера в салоне Перикла, заслушиваясь речами Аспазии; но Андромаха за прялкой, да еще с милой песенкой - вот для нас высший идеал поэзии! Того же мнения был и Шарльмань (Карл Великий): я видел в Майнце веретено, которым он почтил могилу и память своей супруги Фастрады.
Нижняя губка красавицы-соседки немного надулась, как у муртенского склепа, при речи об Аустерлицком мосте. На этот раз друг семьи предоставил меня неудовольствию красавицы: он безмолвствовал.
- Дружок, - подумал я: твое неодобрительное молчание не уверит меня, что я провинился перед француженкой, поставив Андромаху и Фастраду за прялкой выше легкомысленной волшебницы Аспазии: подле нравственной истины нет места комплиментам!
И я обратился к другу семьи: - Мне кажется, светски образованная дама, в особенности женский bel esprt, не любят прялки, чтобы, наконец, была предана забвению поговорка: tomber en quenoalle (попасть за прялку, т. е. перейти в руки женщин)!
Но поговорка эта не заключает в себе ничего предосудительного, когда сам Геркулес, идеал мужества попал за прялку! Меня чрезвычайно восхитило бы, если бы я г-жу Санд, сочинительницу стольких безнравственных романов, я вдруг застал за прялкой!
А может наши дамы не любят этого женского атрибута потому, чтобы не напоминать нам таинственной Парки, роковой прядильщицы, что собственно и означает это греческое слово? Опять напрасно, по-моему, мнению: кто же, как не женщина, прядет нить нашей мужской судьбы и, чтоб не напряла нам эта Парка, мы ее боготворим под милым образом женщины, и прялка самый поэтический, самый необходимый для нас атрибут ее.
Близкий друг улыбнулся. - Нет возможности не убеждаться такой логикой! - воскликнул он; а муж красавицы примолвил: - Такое признание будет иметь еще большую цену в ваших глазах, когда я вам скажу, что приятель мой - адвокат, и из самых искусных. Что мне до ваших одобрительных речей! - подумал я: - мне надо наведаться о метеорологическом состоянии нижней губки нашей дамы!
Нижняя губка была опять на своем месте; ее лицо уже не выражало никакого неудовольствия: она ушла вся в себя, или как говорят французы, сложилась как мимоза-недотрога: она была утомлена от езды! Нас же застигла ночь с молодым месяцем. Сумрак придал таинственную привлекательность природе: воображение гадало об ее незримой красоте. Наконец мы все, один за другим, уснули.
Узнав, что гостиница имеет бельведер, откуда видно Женевское озеро, я поспешил воспользоваться этим видом. С четверть часа простоял я там под зонтиком, с которого дождевые потоки лились вокруг меня водопадом, затем воротился к своему завтраку удовлетворенный и почти веселый. Дождь перестал, начало проясняться.
Вдруг, подле меня, очутились мои вчерашние спутники: красивая дама со своими двумя кавалерами! Мы опять нечаянно сошлись вместе: они также сбирались в Женеву. Не смотря на мое сухое с ними обращение, они приветствовало меня ласково, а дама примолвила со всей французской любезностью: - Nous sommes charmes de vous retrouver!
Прозвенел колокол парохода; за француженкой пришли ее кавалеры; мы сели на пароход, по озеру названный Леманом, и помчались в светлую стихию. Ее дивная голубизна, совершенно особенного тона, прозрачная до самого дна, поражает всей прелестью новизны. Какой вид с озера на Лозанну, великолепно раскинутую по отлогостям Жората! Какая восхитительная природа! День был немного пасмурный; только местами голубое небо выглядывало из-за облаков; время от времени являлось солнце.
Я не замечал моих французов, они также ко мне не подходили; только изредка бросали на меня взгляды, будто их любопытство ко мне еще неудовлетворенно; но мое неприветливое молчание и явное отчуждение сделали меня, для французской деликатности, неприступным, как утес.
Погода еще больше омрачилась, когда мы причалили к берегу, стал накрапывать дождик. Друг семьи предложил мне остановиться с ними в гостинице Весов (Hotel des Balances); я согласился. Мы оба остались на берегу караулить свои вещи до прихода носильщиков; наша красавица-спутница и ее муж ушли осматривать номера. Своим я был очень доволен: под самыми окнами текла стремительная Рона; ее вода была светлее цвета озера.
Дождь шел не переставая; но мне все-таки хотелось погулять по городу - и я отправился, без проводника и без цели, куда ноги понесут. Я очутился на бастионе, вдающемся в озеро, засаженном деревьями и обращенном в приятое место для прогулок. Красивый мостик ведет к искусственному острову, называемому Жан-Жаковым, или островом барок, по имеющейся там статуе Руссо; сидящем в покойных креслах. Лицо его обращено к городу.
Ненастная погода продолжалась и на другой день, но были и солнечные промежутки. Дела Швейцарии принимают серьезный оборот: французское войско собирается на женевской границе. Людовик-Наполеон добровольно оставляет Швейцарию; кантоны готовятся к отчаянной обороне.
Друг семьи предложил мне прогулку за город, чтоб осмотреть укрепления.
Я спрашивал о Сисмонди (фр. Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi), но женевцам не до него; как мне не до Кальвина и Вольтера. Гораздо интереснее, чем Ферней (фр. Ferney-Voltaire), соединение мутной Арвы с чисто голубой Роной, которые, в одном русле, еще долго не сливаются водами: чистое остается чистым и по сочетании с мутным и, наконец, берет верх над ним - и мутное исчезает в общей чистоте!
Я видел родительский дом или - правильнее - место родительского дома Жан-Жака: новое, большое каменное здание заменило скромное жилище Исаака Руссо! Я с досадой отошел от пышного в пять этажей дома, который чванится именем Жан-Жака, писанным золотыми литерами на мраморной доске. Солнце ярко сияло.
За общим столом нашей гостинице, я опять сошелся со своими французами. Друг семьи посадил меня подле своей дамы, разделив их мною как пару. По другую сторону сидел муж, человек добрый, вовсе не ревнивый. Он редко вмешивался в нашу беседу. Наша дама была очень любезна. Кажется, она предала полному забвению мои скифские замашки, от Берна до самого берега Лемана. Друг семьи был столь же мил.
Вместо того, чтобы провести следующий день в обществе любезной француженки, я этой приятной существенностью пожертвовал для мечты. Да, мечта юных лет побудила меня, на другой же день, ещё до рассвета, отправиться в Мельери.
Мельери довольно миловидное сельцо, с церковью на возвышении, гаванью, порядочно оживленной. Трактир плох: видно, немногие посещают Мельери, при всей его знаменитости!Сентиментальные путешественники предпочитают правый берег озера - Веве, Кларан и Шильон; но что может быть печальнее того положения, которое описано в последнем письме третьего тома Новой Элоизы?
Часа два я бродил по его окрестностям, воображая прежнее Мельери - несколько рыбачьих лачужек, посреди исполинских прибрежных утесов, и в этой первобытно-дикой природе, на верхушке суровых высот - два нежных существа, об руку, но разлученные навек долгом чести.
Довольно далеко прошел я по дороге в Sant-Gingolph (Сен-Женгольф); там мельерские утесы, расколоты силой человеческой! Обнаженные недра скал тянутся зубчатой стеной, под которой шоссе, по краю берега, пролегает террасой, около пятнадцати футов над уровнем озера.
Я оставил Мельери. Вскоре, за его утесами, природа становится приветливей; горы отходят от озера и удаляются; развертывается пейзаж вообще богатый растительностью. Роскошно осененная каштановыми деревьями дорога ведет к Эвиану (Evian-les-Bains), красивой аллеей вдоль берега; от дерева к дереву развешены сети, которые опутывают внимание странника своей сельской прелестью: эти пастушьи и рыбачьи атрибуты составляют лучшую палитру красот Леманского прибрежья!
Тонон (Thonon-les-Bains) - столица Шабле. Тут около гавани живут бедняки; а там, на возвышении, обитает знать. Если бы, во всяком городе, так решительно были разделены Acropolis и Katapolis людского быта, то городская среда переспорила бы ее сельскую чистосердечием.
Проехав Дувен и очутившись на женевской земле, я с возвышенности, по которой лежит дорога, впервые увидел Монблан! Я велел остановиться - и засмотрелся на горного великана. Я глядел на него с удивлением и восторгом; но душа долго не отзывалась на его величие его, пока я не нашёл в себе соответственный ему образ и вы, конечно, немало удивитесь что то была древнеримская тень, образ младшего Катона!
По возвращении моем в Женеву, я имел удовольствие узнать, что мои французы заметили мое отсутствие. Не обнаружив меня за общим обедом, они обо мне спрашивали; но никто не знал, куда именно я отправился. Я к ним являюсь; они меня встречают вопросом: - Вы, верно, ездили в Ферней? Я признался, что был в Мельери. Друг семьи отступил на два шага; дама подошла поближе...
V. КОППЕ И ЛОЗАННА
Из-за суматохи в Женеве, я не смог увидеть кабинет де Соссюра (фр. Horace-Benedict de Saussure, первый покоритель Монблана (1787)), куда меня манила, в особенности, его монбланская обувь. Отобедав и простившись с моими французами, обласкавшими меня как родного, я отправился в путь, по правому берегу Женевского озера.
Проезжая мимо Жанто (Genthod), я вспомнил о Боннете и о романтической прогулке нашего Карамзина. В Ферне я не был - я не поехал бы туда, даже если б и сам Вольтер еще там жил. Стоило вырвать сердце Вольтера разве только для того, чтоб удостовериться был ли у него этот кусок плоти, что зовется сердцем. Подозрение весьма основательное, но бессердечны творения этого широкого ума. Я не кланяюсь уму, в котором спрятана змея! Слава Богу, что Ферней выходит из моды!
Незадолго до вечерних сумерек, я приехал в Коппе, где остался ночевать. Я поспешил взглянуть на замок, где ученый скептик Bayle находил убежище в преподавании, и где жили Неккер (фр. Jacques Necker) и его знаменитая дочь (мадам де Сталь). Некрасив вид этого замка, лежащего на возвышенности и только террасой отделенный от Коппе.
Подле домика кастеляна есть густая рощица, обведенная высокой, каменной оградой: там гробница г-жи де Сталь и ее родителей. Ограда заперта накрепко; мрачные стены этой ограды, посреди природы будто осуществляют идею таинственной елисейской рощи.
Подле гостиницы Белого Креста, где я остановился, есть галерея - квадратная, над самым озером площадка, густо засаженная развесистыми, высокими вязами; это место называется: sous-les-Ormeaux (Шайе-Су-Лез-Ормо). От гробницы г-жи Сталь прошел я под эти вязы и там сел на скамейке. Ни единый луч месяца не проникал сквозь листву: была густая темнота, посреди яркого лунного света; тьма дышала весельем и любовью сельских юношей в красавиц, приходящих сюда, для праздничных игр и вечерних бесед. Может быть, здесь и сочинена народная песня:
На рассвете, я уже бродил по парку. Он велик для воспоминаний отставного министра и для романтических фантазий писательницы, но до того прост и запущен, и пасмурен в своей грубой одичалости, что ему не следовало бы быть на берегу Женевского озера.
Уже вечером я отправлялся пароходом на восточный конец озера, в Вильнев (фр. Villeneuve). Только таким образом - по воде - можно уловить главное впечатление от прибрежных пейзажей; оно столь очаровательного свойства, что останется в душе навсегда. О великолепном виде с озера Лозанны я уже говорил.
Пространство, между этими городами занято огромным виноградником, который называется La Vaux. Природная растительность совершенно изгнана из этой области: нет ни деревьев, ни лугов: все поглощено виноградом. Не увидев, я б никогда не поверил, чтоб виноград, при исключительной рассадке на большом пространстве, мог быть так скучен, так утомителен.
Круто подымается дорога, где лежит Saint-Saphorin. Здесь приятная неожиданность: устроенные от села к озеру террасы усажены, чем бы вы думали? Миртами, розами и другими садовыми растениями.
VI. ВЕВЕ, КЛАРАН И ШИЛЬОН
Переехав речку Вевензу, я отпустил своего извозчика: мне вздумалось пройти путь пешком до Вильнева, где была моя квартира. Лучший вид на Веве (фр. Vevey) с гавани: большая открытая площадь, перед хлебным рядом с тосканскими колоннами.
Прекрасен вид с эспланады соборной церкви. В этом храме, две исторические гробницы тяжело дышат тлением, пятнают частый воздух этих мест памятью о бесконечно горьком событии; это гробницы двух английских изгнанников, из которых один был в числе судей несчастного Карла I, а другой читал ему роковую сентенцию!
По возобновлении в 1819 году, каждые пять лет празднуется в Веве праздник виноградарей - великолепное торжество, с любопытными старинными обрядами и разного рода увеселениями; в будущем (1839) году опять срок. Жаль, что мне не довелось видеть этот праздник, столь согласный с идиллическим характером Веве.
Я вошел. В зале внизу сидело несколько поселян за чашей, громко разговаривая о своих политических делах и ожидаемом нашествии французов. Мне отвели, в верхнем зале, чистенькую комнату, с портретом Наполеона. Какие разнородные элементы: Наполеон, первый поцелуй любви и хмельные крестьяне!
На возвышениях, недалеко друг от друга виднеются замки Блоне, Отевиль (Hauteville Castle) и Шателар. В деревне Верне я увидел в одном саду дикие мирт и лавр. Меня удивила такая находка, по эту сторону Альп. С участием глядел я на нежные растения Юга, решившиеся зимовать под чужим небом.
На этот раз подвал, обращенный к западу, был довольно светел от вечернего солнца. Но надо знать, что между колоннами были простенки почти до свода, во всю длину подвала и по бокам, разделявшие это пространство на несколько темниц, где только наверху могло играть слабое отражение дневного света.
Хотя этот подвал действительно до половины высечен в скале, но дно его выше уровня озера. В Шильоне есть еще две темницы, совершенно иного рода, в называемые Oubliettes - местами забвения: это просто колодцы, ужаснейшей глубины! Один из них так глубок, что долго никто не решался спуститься туда, боясь задохнуться.
Другое место забвения не столь глубоко, но зато имеет историю, еще более ужаснейшую - по крайней мере, в устах кастелянши! До сих пор неизвестно, за какую именно вину ввергали в эти ублиэты. Осужденного усаживали на скамейку, перед образом Богоматери, велели приложиться к святыне - и тотчас, по исполнении этого, дверь роняла несчастного в бездну, где, на середине падения его ожидал перекресток лезвий!
Название ублиэт напоминает персидскую Тюрьму Забвения, о которой говорят византийские историки. Эта тюрьма была в романтическом замке Роз. Под смертной казнью было запрещено произносить имя того, кто ввержен в эту темницу; следовательно, для своих ближних он был болеe мертв, нежели в гробу: усопших, по крайней мере, поминают!
Мой дамский чичероне водил меня по всем четырем дворам замка, по бесконечным переходам. Я видел зал юстиции. В комнате геpцога - la chambre ducale - полинялые следы свидетельствуют еще о прежней роскоши. Герцогининой комнаты я не мог видеть: она была наполнена порохам! Эпиграмма ли это на женское сердце, которое чуть ли не в правду пороховой магазин? В 1838 году ровно шестьсот лет, как граф Савойский - Амедей V принялся строить Шильон.
Обозрение замка заканчивается нарядной комнатой, в квартире кастеляна, над темницей Боннивара. Тут добрая хозяйка напоила меня кофеем, рассказывая имена французских знаменитостей, которых она, в этой комнате, угощала тем же напитком.
III.
ЖЕНЕВА
В глухую полночь мы прибыли в Лозанну. Впросонках не до церемоний, не до прощания с эфемерными знакомыми. Каждый из нас, думая только о себе; о своих вещах, кое-как выбрался из кареты и приискал себе приют в гостинице.
ЖЕНЕВА
В глухую полночь мы прибыли в Лозанну. Впросонках не до церемоний, не до прощания с эфемерными знакомыми. Каждый из нас, думая только о себе; о своих вещах, кое-как выбрался из кареты и приискал себе приют в гостинице.
С трудом поместился я в английском подворье. После краткого отдыха, проснулся я на рассвете, при шуме сильного дождя, бьющего в окна; день был самый печальный и мрачный; город полностью залит грязью.
Узнав, что гостиница имеет бельведер, откуда видно Женевское озеро, я поспешил воспользоваться этим видом. С четверть часа простоял я там под зонтиком, с которого дождевые потоки лились вокруг меня водопадом, затем воротился к своему завтраку удовлетворенный и почти веселый. Дождь перестал, начало проясняться.
Я посмотрел на часы: через полчаса прибудет пароход из Вильнёва! Что мне делать в грязной Лозанне? Не лучше ли прокатиться по Женевскому озеру, и вернутся сюда, в лучшее время? Я в минуту изготовился к отъезду; у ворот гостиницы уже стоял омнибус; со мной сели еще два пассажира, и мы отправились.
Прибыли в Лозаннскую гавань Уши (Ouchy), там солнце сияло во всем блеске. - Вот и солнце Лейпцига, - подумал я, улыбнувшись (В октябре 1813 года Лейпциг и его окрестности стали ареной ожесточённого многодневного сражения, вошедшего в историю как Битва народов, и ставшего крупнейшим вооружённым противостоянием не только эпохи Наполеоновских войн, но и всего XIX века. В том же году в Лейпциге родился Рихард Вагнер).
Я стоял на берегу великолепного Лемана, и грудь моя взволновалась от радости. По ту сторону, прямо напротив, светлые живописные облака опоясывали высокие горы Савойи, откуда милое Мельери, посреди своих утесов улыбалось мне приветливо, и я, как в юные годы душой стремился к нему! Я глядел вдаль, рассыпался зрением по всему озеру - и сердце мое расширялось от восторга.
Вдруг, подле меня, очутились мои вчерашние спутники: красивая дама со своими двумя кавалерами! Мы опять нечаянно сошлись вместе: они также сбирались в Женеву. Не смотря на мое сухое с ними обращение, они приветствовало меня ласково, а дама примолвила со всей французской любезностью: - Nous sommes charmes de vous retrouver!
Я обменялся со своими французами несколькими словами и воспользовался удобным случаем отойти в сторону, чтобы насладиться про себя, и на свободе, первым впечатлением от Женевского озера. Кавалеры нашей красавицы хлопотали около своих вещей; она же подошла ко мне, молча посмотрела на озеро, рисуясь в нем во всей своей стройности и отражая, в черных пламенных глазах, свой душевный восторг, заговорила со мной о красотах Лемана и, наконец, заметила с каким-то филантропическим участием, что я теперь очень далеко от своей родины!
На этот раз мне показалось, что она к своей искренней чувствительности подмешала значительную долю искусственности, как будто она играла чувство, как роль (qu'elle jouait le sentment), чтобы подурачиться, или потешиться над моим скифским (первобытным) чувством к природе. У меня, в душе зашевелился Сатир: не люблю аффектации чувства! Я ускользал от всяких точных объяснений на счет моего отечества, называя себя, глухо, потомком Золотой Орды, которому Леман, этот маленький бассейн воды, слегка напоминает его родную величественную Волгу!
Прозвенел колокол парохода; за француженкой пришли ее кавалеры; мы сели на пароход, по озеру названный Леманом, и помчались в светлую стихию. Ее дивная голубизна, совершенно особенного тона, прозрачная до самого дна, поражает всей прелестью новизны. Какой вид с озера на Лозанну, великолепно раскинутую по отлогостям Жората! Какая восхитительная природа! День был немного пасмурный; только местами голубое небо выглядывало из-за облаков; время от времени являлось солнце.
Скрываясь за горным туманом, Монблан на этот раз не показывался; но, и без Монблана, есть тут бесконечное изобилие красот для того, кто в первый раз проезжает по Леману.
Я не замечал моих французов, они также ко мне не подходили; только изредка бросали на меня взгляды, будто их любопытство ко мне еще неудовлетворенно; но мое неприветливое молчание и явное отчуждение сделали меня, для французской деликатности, неприступным, как утес.
Друг семьи, наконец, выждал момент, в который можно было ко мне приступить: у нас завязался разговор, когда я опомнился от долгого мечтательного наслаждения природой. Кто же, в такую минуту, не бывает, обходителен и разговорчив! Я разговорился, увлекся, и широко раскинул беседу. Без прямых расспросов, мы узнали, что он из Лиона, а я из С.- Петербурга.
Он видимо очень удивлялся моей столь продолжительной говорливости. Заметил, что он на своем веку мало видел северян, и потому наблюдает меня с особенным вниманием, я же из патриотизма пустил в наш диалог порядочную часть своего собственного капитала, в доказательство того, что мы - Гиперборейцы - в образованности можем поспорить с лионским адвокатом: затем я провел его по разным векам и словесностям и наконец, остановился на новейшей французской литературе; где он очутился дома и всего более a son aise.
Он спрашивал меня отдельно о каждом из нынешних ее известностей, и мои суждения были, елико-возможно - новы и оригинальны, не чужды, правда и странности, но это лишь доказывало, что это мое собственное мнение, а ничье другое. Он заметил мою оригинальность суждений; я отвечал с улыбкой: - Хараксон то номисма (клади свой штемпель на монету) - французы, как Афиняне наших времен, не любят ничего обыкновенного, будничного: будь оно даже странно - лишь бы было ново!
Этот разговор был, если не целиком, то, по крайней мере, в главных чертах, пересказан нашей спутнице, как мог я заметить из первых слов, которые она ко мне обратила. Я опять кое-как с ней расчелся учтивостью и устремил внимание на Женеву, сидящую величаво на оконечности своего озера.
Этот разговор был, если не целиком, то, по крайней мере, в главных чертах, пересказан нашей спутнице, как мог я заметить из первых слов, которые она ко мне обратила. Я опять кое-как с ней расчелся учтивостью и устремил внимание на Женеву, сидящую величаво на оконечности своего озера.
Погода еще больше омрачилась, когда мы причалили к берегу, стал накрапывать дождик. Друг семьи предложил мне остановиться с ними в гостинице Весов (Hotel des Balances); я согласился. Мы оба остались на берегу караулить свои вещи до прихода носильщиков; наша красавица-спутница и ее муж ушли осматривать номера. Своим я был очень доволен: под самыми окнами текла стремительная Рона; ее вода была светлее цвета озера.
Я задумался, присев у окна, что не услышал, как вошел ко мне друг семьи осведомиться: доволен ли я номером и, спросить увидимся ли за общим столом? - Нет, обедаю в номере: после всех впечатлений я не гожусь для общества. - Вы, как мне кажется, любите уединение?
- Я далеко не мизантроп, но если бы сделался им, то любезность французов могла меня опять привязать к людям.
Дождь шел не переставая; но мне все-таки хотелось погулять по городу - и я отправился, без проводника и без цели, куда ноги понесут. Я очутился на бастионе, вдающемся в озеро, засаженном деревьями и обращенном в приятое место для прогулок. Красивый мостик ведет к искусственному острову, называемому Жан-Жаковым, или островом барок, по имеющейся там статуе Руссо; сидящем в покойных креслах. Лицо его обращено к городу.
Я заметил одному женевцу, с которым там сошелся, что этот памятник мне не нравится. Женева здесь будто знать не хочет, что именно она его изгнала и преследовала. Дикий, чуждающийся людей Руссо, который, по своему мнению, имел дело только с природой, должен бы сидеть лицом к озеру, прославленному его Элоизой: тогда он являлся бы проезжающему водой чужестранцу почтенным представителем своей родины, неким владыкой Лемана!
Пересадите Руссо лицом к озеру; поставьте Женеву в виде прекрасной грешницы, на колени, подле его кресел, и тогда было бы нечто, гораздо лучшее; нечто, истинно возвышенное, поразительное. Женевец разделял это мнение. Статую Руссо омывало дождем, как жизнь его - слезами.
Не взирая на мокрую погоду, я обошел почти весь город. Он не имеет особенной физиономии. Не все улицы хороши; между ними первенствует Corraterie, в один тротуар, но преширокий и прекрасный. Здания более солидны, нежели красивы. Знаменитая la Treille прескучное место во время дождя.
Дождь уже начинает проникать сквозь мое платье, до живого тела; но что значит нежный швейцарский дождик, хотя и сентябрьский, для Северянина, привыкшего, в военной службе, ко всем прихотям климата. Эту привычку (гулять под дождем) подарило мне одно открытие: от скуки, наведенной октябрьским дождем на одинокого человека, в холостой квартире, всего легче избавляться продолжительной прогулкой под дождем, так, чтобы не оставалось и сухой нитки.
Придешь домой, велишь развести огонь, переоденешься - и почувствуешь себя возрожденным. Скука спадает с мокрыми покровами, а вместе с сухими, при стакане горячего чаю, обретаешь веселье духа, и силу и бодрость. Даже в Петербурге, где я более всего расположен был к меланхолии, даже там я нередко лечился от уныния таким насильственным потрясением нервов - и всегда удачно.
На трактирной лестнице со мной столкнулся друг семьи. Он испугался моего промокшего вида и стал торопить меня с переодеванием. Я остановился, назвал себя Юпитером Plavus и принялся излагать ему свой образ лечения от скуки и момент перехода от мирского к тихим поэтическим мечтаниям и умственным трудам.
С каким наслаждением отогревался я у пылающего камина, под вдохновительный шум Роны! А неукротимая дщерь Альп под моими окнами вырывается на свободный разгул, в Средиземное море, по которому и я поплыву в скором времени!
Ненастная погода продолжалась и на другой день, но были и солнечные промежутки. Дела Швейцарии принимают серьезный оборот: французское войско собирается на женевской границе. Людовик-Наполеон добровольно оставляет Швейцарию; кантоны готовятся к отчаянной обороне.
Женева кипит военной деятельностью: проверяют укрепления города; по улицам ежечасно тянутся отряды войск; почти все жители в мундирах - от детей до торговцев. Когда, бывало, услышишь в Cafe au bel air суждения, дающие понять о якобинских клубах во время террора, то невольно пожелаешь, чтобы меч врагов подрезал эти дерзкие языки.
Но если присматриваешься и прислушаешься к народу, который, не входя в разбирательство, на счет правоты или неправоты своего правительства в этом деле, приготовляется по его приказу к бою в безмолвии и благоговении, потому, что народу сказано: стоять за честь народную - то умиляешься этим зрелищем, этим мужеством, одушевляющим легион, сформированный из одних юнцов, понимаешь, что умы в Cafe au bel air есть вздорные эмигранты и бежавшие преступники, или заражённый ими малочисленный класс местных жителей, может быть еще исправлен, и сердце путешественника передается на сторону Швейцарцев и желает им счастливого исхода войны.
Начальник Французского, против Швейцарцев назначенного войска назвал их, в приказе по своей армии: nos voisins turbulents - наши задорные соседи! вот, что всего больше бесило якобинцев в Cafe au bel air. Есть ли тут, хотя бы одна причина беситься! Всякий здравый ум захохочет: что может быть смешнее подобного обвинения своих ближних в устах нынешних французов!
Друг семьи предложил мне прогулку за город, чтоб осмотреть укрепления.
- Как вы думаете? - спросил он: - остановят ли наше войско эти стены?
- Как бы не было чудесно мужество Швейцарцев, - отвечал я: - французы их просто перепрыгнут! Их может остановить разве только детский легион! Швейцарцам всего то надобно расставить этих отроков по тем укреплениям, которые будут подвергнуты первому натиску врага.
Французы вспрыгнут на вал, зарукоплещут воинственному духу детей, расцелуют их, надададут им конфет - но без bonbons - спрыгнут с вала и доложат своему генералу, что с детьми они драться не будут, и пошлют вместо себя детей тех же лет, если Луи-Филипп (фр. Louis-Philippe I) непременно хочет войны!
Я считаю французов способными на такие дела; они поймут, что, после своих наполеоновских побед, только подобным подвигом человечности они могут еще увеличить блеск своего оружия, чтобы было чем похвалиться перед ветеранами старой императорской гвардии!
Потешил же я своего француза этой шуткой!
Я обошел и объехал город и видел все, что можно было видеть в этих смутных сбстоятельствах, совершенно изменивших обычный характер Женевы. Учёность ее безмолвствует; торговля хотя и торгует еще часами и драгоценностями, но в военном мундире и с каким-то благородным равнодушием к житейским мелочам.
Я обошел и объехал город и видел все, что можно было видеть в этих смутных сбстоятельствах, совершенно изменивших обычный характер Женевы. Учёность ее безмолвствует; торговля хотя и торгует еще часами и драгоценностями, но в военном мундире и с каким-то благородным равнодушием к житейским мелочам.
В одном из лучших магазинов я купил часы; цена мне показалась слишком дорогой для Женены; но я не решился торговаться с воинственным продавцом, полным торжественной задумчивости и вовсе не занятым своей торговлей. В театре Вильгельм Телль.
- Боже мой, - подумал я: - для чего же прибегать к этому Теллю? Пора бы понять, что Телль не кто иной, как бежавший политический преступник, подлым образом убивший Гесслера. Смерть Гесслера была на пользу Швейцарии: скандинавская сказка вошла в биографию Телля - и сделала его народным героем. Не верьте гласу народа, когда народ злорадствует гибели того, кто держал его в повиновении!
Не с одним Теллем случалось подобное! Я отнюдь не принадлежу к тем педантам истины, которые, в своих исторических исследованиях, доискиваются сказочности или сомнительности благодушных сказаний, возбуждающих героизм в нашей душе.
Но, с другой стороны, не должно уважать прошлое, если можно уличить в самозванстве порочное и дурное; мыслящему человеку, во всех веках, следует заботиться о вящей правдивости суда исторического, и чистой славой в истории должна пользоваться одна добродетель.
Я спрашивал о Сисмонди (фр. Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi), но женевцам не до него; как мне не до Кальвина и Вольтера. Гораздо интереснее, чем Ферней (фр. Ferney-Voltaire), соединение мутной Арвы с чисто голубой Роной, которые, в одном русле, еще долго не сливаются водами: чистое остается чистым и по сочетании с мутным и, наконец, берет верх над ним - и мутное исчезает в общей чистоте!
Не так ли бургундская, или лучше сказать - женевская принцесса Клотильда - христианка - сочетавшись браком с языческим королем Франков, обратила его, и все царство, в христианскую веру. В Женеве есть ворота, в виде готической арки: их называют воротами Клотильды. Было время, когда принцессы, Клотильда и сестра ее, сиживали у дворцовых ворот, справляя гостеприимство путешественникам!
Не отвергнут был и странник в нищенском образе: один из таких нищих - переодетый посол - преподнес Клотильде кольцо и предложил королевскую руку.
Я видел родительский дом или - правильнее - место родительского дома Жан-Жака: новое, большое каменное здание заменило скромное жилище Исаака Руссо! Я с досадой отошел от пышного в пять этажей дома, который чванится именем Жан-Жака, писанным золотыми литерами на мраморной доске. Солнце ярко сияло.
Я еще раз отправился на островок посмотреть, не найду ли теперь, при этом веселом свете, в чертах Руссо какое-нибудь отражение его любви к графине d'Houdelot? Нет! Его лицо мрачно-задумчиво и на солнце! Слишком мало было светлых минут в его скорбной жизни: нет ни малейшего отблеска душевного счастья!
За общим столом нашей гостинице, я опять сошелся со своими французами. Друг семьи посадил меня подле своей дамы, разделив их мною как пару. По другую сторону сидел муж, человек добрый, вовсе не ревнивый. Он редко вмешивался в нашу беседу. Наша дама была очень любезна. Кажется, она предала полному забвению мои скифские замашки, от Берна до самого берега Лемана. Друг семьи был столь же мил.
Я сидел между двух отборных любезностей и, впервые, после многих лет, почувствовал к ним что-то похожее на симпатию. За столом было много дам; две-три симпатичные англичанки; но наша француженка была царицей обеда. Общий разговор не касался Швейцарии: застольные гости были, в основном путешественники. А а Германии, многие семейства обедают не дома, но в гостиницах.
IV. МЕЛЬЕРИ
IV. МЕЛЬЕРИ
Вместо того, чтобы провести следующий день в обществе любезной француженки, я этой приятной существенностью пожертвовал для мечты. Да, мечта юных лет побудила меня, на другой же день, ещё до рассвета, отправиться в Мельери.
В то время, одно из самых пылких моих желаний было видеть Кларан (фр. Clarens) и Мельери. Эти два имени неразлучно сопровождали меня в знойной области страсти. Человек недолго способен к чувствам такого рода. Не выспавшись, после вечерних занятий, я, в такое раннее вставание, был как-то не расположен к этой пилигримской поездке, и не без труда преодолел неохоту.
Утро было холодное; я закутался в плащ и уснул. Полусонный объяснялся с пограничной стражей в Дувене (Douvaine). Намереваясь осмотреть, на обратном пути, все прибрежные места левой стороны Лемана, я счел за лучшее продолжить свой сон. Ничто не подогревало моего любопытства; я знал, что Мельери уже не тот, чем был во время романтической прогулки госпожи Вольмар с Сен-Прё (герои романа Руссо, Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза); французские инженеры раздробили те грозные утесы, на которых мечтали несчастные любовники (плохо же приходится природному жертвеннику любви, когда он попадает под руку инженерам)!
Мельери довольно миловидное сельцо, с церковью на возвышении, гаванью, порядочно оживленной. Трактир плох: видно, немногие посещают Мельери, при всей его знаменитости!Сентиментальные путешественники предпочитают правый берег озера - Веве, Кларан и Шильон; но что может быть печальнее того положения, которое описано в последнем письме третьего тома Новой Элоизы?
Кто, в молодости, не любил свою Юлию, вышедшую впоследствии за другого замуж! Удивляюсь, что Чайльд-Гарольд проглядел столь заветное место, когда рассыпался блестками над Клараном: но у него была Мери Чауорт. Гарольд видел ее замужество, круг ее детей, прекрасных, как и она; помянул ее здесь, на Лемане, пленительным стихотворением: Сон - и миновал безмолвием Мельери!
Часа два я бродил по его окрестностям, воображая прежнее Мельери - несколько рыбачьих лачужек, посреди исполинских прибрежных утесов, и в этой первобытно-дикой природе, на верхушке суровых высот - два нежных существа, об руку, но разлученные навек долгом чести.
Чувствуешь невыразимую прелесть такого нравственного торжества, в столь дикой природе, где могущество ее должно бы, казалось, устранить все условное; сделать невозможным всякое умственное противоборство стремительному влечению сердец. Не стану рассказывать того, что промечтал и прочувствовал я в эту прогулку...
Довольно далеко прошел я по дороге в Sant-Gingolph (Сен-Женгольф); там мельерские утесы, расколоты силой человеческой! Обнаженные недра скал тянутся зубчатой стеной, под которой шоссе, по краю берега, пролегает террасой, около пятнадцати футов над уровнем озера.
Прибрежная сторона дороги унизана одинаковыми гранями, в равном друг от друга расстоянии; в иных местах есть массивные перила. Горные потоки вливаются в озеро придорожными речками; для речек есть каналы, выложенные камнем и пересекающие шоссе деревянными мостами, окрашенными и пронумерованными.
Я оставил Мельери. Вскоре, за его утесами, природа становится приветливей; горы отходят от озера и удаляются; развертывается пейзаж вообще богатый растительностью. Роскошно осененная каштановыми деревьями дорога ведет к Эвиану (Evian-les-Bains), красивой аллеей вдоль берега; от дерева к дереву развешены сети, которые опутывают внимание странника своей сельской прелестью: эти пастушьи и рыбачьи атрибуты составляют лучшую палитру красот Леманского прибрежья!
Эвиан милый город, с живописным местоположением и с лучшим, с этой стороны, видом на Женевское озере. Взор объемлет пространство швейцарского берега, увенчанного ближайшею цепью Юры - Жоратом, которого амфитеатральный к Леману склон расписал бесподобными ландшафтами. Их нежному виду противопоставлен суровый рисунок вершин Ваадтских Альп, около Вильнева. Амфион красивое селение, с минеральными водами и щедрой природой. Далее по дороге виднеются развалины какого-то замка.
Тут сама природа представляется развалиной: буйная Дранса опустошила долину, по которой протекает. Грустен вид этой широкой рытвины. Узкий старинный мост переходит извивами на другую сторону; на середине его есть одно место, где встречные экипажи с трудом разъезжаются. Говорят, Дранса неукротима! Если гений человека покорил себе могучих Гномов Адьпийских, то неужели не сладит с Ундиной? Вероятно, некому вырыть ей глубокое русло, втеснить ее в предписанное течение! В вакхическом раздолье река вливается озеро.
Тонон (Thonon-les-Bains) - столица Шабле. Тут около гавани живут бедняки; а там, на возвышении, обитает знать. Если бы, во всяком городе, так решительно были разделены Acropolis и Katapolis людского быта, то городская среда переспорила бы ее сельскую чистосердечием.
Проехав Дувен и очутившись на женевской земле, я с возвышенности, по которой лежит дорога, впервые увидел Монблан! Я велел остановиться - и засмотрелся на горного великана. Я глядел на него с удивлением и восторгом; но душа долго не отзывалась на его величие его, пока я не нашёл в себе соответственный ему образ и вы, конечно, немало удивитесь что то была древнеримская тень, образ младшего Катона!
Постараюсь объяснить вам эту странность. Он не был богат; не имел высокой должности; не тешил римских граждан общественными празднествами; не только ни чем не искал народной любви, но еще и отвращал от себя своих продажных современников стоической строгостью житейских правил и понятий о чести и добродетели.
В доме его не теснились просители; у него нельзя было домогаться почестей и прав над провинциями; он досаждал всем сословиям своими выходками против лихоимства; он имел немногих истинных друзей, но решительно не имел и не хотел иметь - партии. Этот человек, каким мы его видим теперь, присутствовал однажды на играх Флоры. Вдруг, посреди действия, представление прервалось и весь народ - как бы единым взглядом, - посмотрел на Катона. Тот, с удивлением, спрашивает, что это значит.
Сидящий подле него Фавоний объяснил ему с улыбкой, что с некоторого времени, в развращенном Риме, завелся обычай: требовать, на Флоралиях, в иных случаях, появления актрисы в виде грации, или пляшущей статуи. Катон тотчас встал и, выходя из театра, был осыпан рукоплесканиями! Диковинный народ, оказавший, и в разврате своем, столь великое уважение к добродетели!
Но какова долженствовала быть добродетель, которая, безо всякого наружного блеска - без богатства, без ослепительных заслуг - и даже без любви народной, да еще в неприветливом виде стоического Катона - прославилась безмолвно, во время общественных пороков! В этой сцене жизни своей, Катон дает столь огромное понятие о добродетели человека, что она неизмеримым колоссом восходит до небес. Эту мечту моей юности напомнил мне одинокий в своей возвышенности Монблан!
По возвращении моем в Женеву, я имел удовольствие узнать, что мои французы заметили мое отсутствие. Не обнаружив меня за общим обедом, они обо мне спрашивали; но никто не знал, куда именно я отправился. Я к ним являюсь; они меня встречают вопросом: - Вы, верно, ездили в Ферней? Я признался, что был в Мельери. Друг семьи отступил на два шага; дама подошла поближе...
V. КОППЕ И ЛОЗАННА
Из-за суматохи в Женеве, я не смог увидеть кабинет де Соссюра (фр. Horace-Benedict de Saussure, первый покоритель Монблана (1787)), куда меня манила, в особенности, его монбланская обувь. Отобедав и простившись с моими французами, обласкавшими меня как родного, я отправился в путь, по правому берегу Женевского озера.
В предместье, лежащем к французской границе, жители, со страха войны, выезжали из своих домов. На одном дворе, целое семейство сидело в просторном экипаже; хозяйка и взрослая дочка подносили платок к глазам; дети развилась; хозяин отдавал последнее напутствие работнику, закрывающему ставни.
Я с участием посмотрел на их маленький домик. Женева - передовой страж Швейцарии, на которого пойдет первое движение врага! Но хочется думать, что граница - заповедный Рубикон: политическая распря не перешагнёт его с оружием! Не стыдно ли будет опустошить эти грациозные жилища, которыми усеяна вся дорога вдоль берега?
На каждом шагу, или дача, или ферма, или деревенька, посреди миловидных садов: выбегут посмотреть на проезжающего, улыбнутся - и тотчас скроются за зелень древесную! Природа имеет здесь аттическую прелесть и изменчивость - versatiltte - что сказывается яснее, в виду величественного Монблана, справляющего вам проводы.
Проезжая мимо Жанто (Genthod), я вспомнил о Боннете и о романтической прогулке нашего Карамзина. В Ферне я не был - я не поехал бы туда, даже если б и сам Вольтер еще там жил. Стоило вырвать сердце Вольтера разве только для того, чтоб удостовериться был ли у него этот кусок плоти, что зовется сердцем. Подозрение весьма основательное, но бессердечны творения этого широкого ума. Я не кланяюсь уму, в котором спрятана змея! Слава Богу, что Ферней выходит из моды!
Незадолго до вечерних сумерек, я приехал в Коппе, где остался ночевать. Я поспешил взглянуть на замок, где ученый скептик Bayle находил убежище в преподавании, и где жили Неккер (фр. Jacques Necker) и его знаменитая дочь (мадам де Сталь). Некрасив вид этого замка, лежащего на возвышенности и только террасой отделенный от Коппе.
Замок имеет какой-то полинялый, желтый цвет, и состоит из главного, на озеро обращенного корпуса и двух боковых флигелей; четвертую сторону квадратного двора замыкает парк. От главных ворот пробегает приятный, деревьями усаженный, проспект к дороге в Версуа и Женеву. Я не застал молодой хозяйки замка: она только что уехала в Париж, тотчас по получении эстафеты. Кастелян сообщил мне с таинственным видом, что Герцогиня Броли умерла, и это еще не известно в Женеве. Известие о смерти дочери г-жи Сталь меня тронуло, в прославленном ее матерью Коппе.
Подле домика кастеляна есть густая рощица, обведенная высокой, каменной оградой: там гробница г-жи де Сталь и ее родителей. Ограда заперта накрепко; мрачные стены этой ограды, посреди природы будто осуществляют идею таинственной елисейской рощи.
Наступила ночь; полный месяц выше и выше подымался над Леманом, а я все еще гулял по той густой рощице. Казалось, воздух был наполнен духами и эльфами, которые, носились в лунном свете, над Коппе, бесконечными хороводами. Сердце мое было полно истинного умиления, фантазиями: мне явилась из-за гробовой ограды, женщина в белых покровах, об руку с родителем, и они воздушными стопами прошли мимо меня, через дорогу...
Подле гостиницы Белого Креста, где я остановился, есть галерея - квадратная, над самым озером площадка, густо засаженная развесистыми, высокими вязами; это место называется: sous-les-Ormeaux (Шайе-Су-Лез-Ормо). От гробницы г-жи Сталь прошел я под эти вязы и там сел на скамейке. Ни единый луч месяца не проникал сквозь листву: была густая темнота, посреди яркого лунного света; тьма дышала весельем и любовью сельских юношей в красавиц, приходящих сюда, для праздничных игр и вечерних бесед. Может быть, здесь и сочинена народная песня:
Viens sous les Ormeaux,
Loin de mes rivaux,
Ecouter mes maux!
В такую прекрасную лунную ночь, над очаровательным Леманом, в этом романтическом месте, где так и веет дыханием юных страстей и амброзией поцелуев и лепета любви, мне подумалось: может ли местность умножать поэзию юных страстей? На Лемане, под этими вязами, счастливее ли в подобных отношениях, нежели на Волге, на Оке, и даже в местах, вовсе не романтических? Полагаю, что нет!
Loin de mes rivaux,
Ecouter mes maux!
В такую прекрасную лунную ночь, над очаровательным Леманом, в этом романтическом месте, где так и веет дыханием юных страстей и амброзией поцелуев и лепета любви, мне подумалось: может ли местность умножать поэзию юных страстей? На Лемане, под этими вязами, счастливее ли в подобных отношениях, нежели на Волге, на Оке, и даже в местах, вовсе не романтических? Полагаю, что нет!
На самую дивную местность насмотришься досыта, в несколько дней! Жертвенник любви одинаково восхитителен, на всем земном шаре; из сердца истекает волшебство, твоя подруга единственная в мире существо, а место твоего сладостного с ней свидания - Эдем! На ледяных скалах полярного моря, свершенная любовь будет столь же горяча и идеальна, как и в знаменитой долине Фессалии! Пора в гостиницу Белого Креста!
На рассвете, я уже бродил по парку. Он велик для воспоминаний отставного министра и для романтических фантазий писательницы, но до того прост и запущен, и пасмурен в своей грубой одичалости, что ему не следовало бы быть на берегу Женевского озера.
Уже вечером я отправлялся пароходом на восточный конец озера, в Вильнев (фр. Villeneuve). Только таким образом - по воде - можно уловить главное впечатление от прибрежных пейзажей; оно столь очаровательного свойства, что останется в душе навсегда. О великолепном виде с озера Лозанны я уже говорил.
Веве очень приятного, заманчивого вида. Кларан будто таится в зеленых боскетах от двух-трех замков, глядящих на него с высоты. Знаменитый Шильон производит менее эффекта, чем можно было ожидать от готического замка, в этих местах; он задавлен виднеющейся высокой горой. Очень мил крошечный единственный в Лемане островок, над Вильневом, созданный искусством.
Подъезжая к городу, любуешься им, в углу озера, у самого подгорья крутых, огромных возвышений; но вблизи, эти же горы, со своей суровой растительностью, наводят уныние на Вильнев, который и сам по себе не весел: дома дурно построены; улицы нехорошо вымощены - неприветливое существование сильнее очарования римского происхождения. Там мне делать было нечего!
Оставался еще час-два; я поспешил в Шильон (Chateau de Chillon), где успел познакомиться с женой привратника замка - мадам Веллатон, заранее осмотрев все главные достопримечательности. Ночь настигла нас в темнице Боннивара, а говорливая шильонская дама все еще не прерывала своего рассказа, не смотря на клич мужа, который вызывал ее из подземелья.
Она раз подала ответный голос, да и не подумала торопиться. Мое отступательное движение к дверям удивило ее. Я сказал ей, что ввернусь сюда завтра, и что она будет довольна мной и моей поэмой. Завтра мне предстоит романтическая прогулка, если не помешает погода.
Утро было прекрасное. Я отплыл на пароходе. В третий раз я находился в водах Лемана и все еще не мог наглядеться на эту вечною милую голубизну.
Утро было прекрасное. Я отплыл на пароходе. В третий раз я находился в водах Лемана и все еще не мог наглядеться на эту вечною милую голубизну.
Я сошел на берег в Лозанне. Этот город, столь восхитительный с озера, несносен с берега своей неровностью местности. Такая беспорядочность не искупается никакими красотами! Разумеется, здесь нельзя было не вспомнить о Гиббоне (англ. Edward Gibbon) и не осмотреть на жилище, где он написал большую часть своей знаменитой истории.
Интересно в жизни историка, по бессердечию свойственной Вольтеру, Лозаннское Общество Весны, описанное Гиббоном в его автобиографии. Это общество составляли пятнадцать или двадцать девиц, из очень хороших, хотя и не первых домов. Старшие были двадцати лет; все они были милы; иные чрезвычайно грациозны; две-три красавицы. Почти ежедневно собирались они в доме одной из них, без надзора, без обязательного присутствия какой-нибудь матери, или тётки: их предоставляли собственному благоразумию, среди молодых кавалеров со всех концов Европы.
Они шутили, пели, танцевали, играли в карты, или ломали комедию, но уважали себя и были уважаемы мужчинами в этой беспечности. Свобода обращения не переходила за черту приличия, и даже городская молва не могла прикоснуться к их девственной непорочности.
Также нельзя было не заглянуть в соборную церковь, - в эту усыпальницу стольких царственных особ. Интереснейший из всех этих исторических покойников - первый герцог Савойский, Амадей VIII Миролюбивый (итал. Amedeo VIII di Savoia).
Также нельзя было не заглянуть в соборную церковь, - в эту усыпальницу стольких царственных особ. Интереснейший из всех этих исторических покойников - первый герцог Савойский, Амадей VIII Миролюбивый (итал. Amedeo VIII di Savoia).
Он сложил с себя корону, был на час и папой, под именем Феликса V; сложил с себя и тиару, и поживал беспечно в своей Картезианской обители, в Рипале (Ripaile),подле Тонона, на противоположном берегу Лемана.
На обратном пути из Мельери, переехав рытвину Дрансы, а потом, с зеркала озера, смотрел я на эту Картезианскую Обитель, имевшую отшельника, каких не найдешь в летописях ни одного монастыря, бывшего венценосца и папы, в одном лице!
Помечтав об этом событии, ничего, право, уже не захочешь видеть в Лозанне, и, взяв извозчика, с парой добрых коней и с условием: ехать прытко - я отправился в Веве.
Пространство, между этими городами занято огромным виноградником, который называется La Vaux. Природная растительность совершенно изгнана из этой области: нет ни деревьев, ни лугов: все поглощено виноградом. Не увидев, я б никогда не поверил, чтоб виноград, при исключительной рассадке на большом пространстве, мог быть так скучен, так утомителен.
Бахус должен быть ограничен и в природе, и в человеке! Неужели он, в древности, завоевывал целые государства? В иных местах, до сорока террас взгромождены одни над другими! Я с досадой проезжал по длинной, узкой, единственной улице Лютри (Lutry) городка, заселенного тысячью виноградарей: не хватает только, чтобы они построили жилища с плоскими крышами, да развели бы виноград и на крышах!
В Кюлли, есть медная статуйка с надписью: Libero patri Cocliensi - доказывающая, что здесь царствовал бог вина и во времена римлян. Утомленный от вечного винограда, посмотришь с удовольствием на плющ, по стенам древнего замка Глероль, на роскошную зелень эспланады его. Тут же и водопад, в несколько уступов. В некотором расстоянии от дороги, на хребте Жората, виднеются развалины крепости средних веков, La Tour de Gourze.
Круто подымается дорога, где лежит Saint-Saphorin. Здесь приятная неожиданность: устроенные от села к озеру террасы усажены, чем бы вы думали? Миртами, розами и другими садовыми растениями.
Я вообразил Сен-Сафорийцев поэтами, или философами по желанию сердца, и уже готов был переселиться к такому избранному племени, и романтически прожить свой век, на берегу Лемана, под миртами и розами, но как жестоко отрезвило меня полученное от моего извозчика новость, что Сен-Сафорийцы торгуют миртами и розами в католических кантонах Швейцарии!
Если дети и красавицы продают цветы, то эта продажа облагораживается их невинностью и красотой, есть что-то поэтическое в подобной торговле, но если крестьяне всем миром положили сделать из роз отрасль промышленности - воля ваша - это ужасно и не для поэта!
VI. ВЕВЕ, КЛАРАН И ШИЛЬОН
Переехав речку Вевензу, я отпустил своего извозчика: мне вздумалось пройти путь пешком до Вильнева, где была моя квартира. Лучший вид на Веве (фр. Vevey) с гавани: большая открытая площадь, перед хлебным рядом с тосканскими колоннами.
Везде небольшие красивые дома, и светлые, широкие улицы. Какое-то общее впечатление чистоты, порядка, стройности и радушия придаёт городу грациозную заманчивость; он дышит чем-то родным: бродишь по улицам и невольно воображаешь, что это должен быть город, в котором ты жил когда-то. Чувствуешь что-то знакомое и любимое, и не знаешь, в чем оно состоит. Я впервые был в Веве, и сразу поддался этому милому обману.
Долго гулял я по тенистой набережной, между гаванью и рекой; голубое озеро было, как зеркало, и искрилось миллионами солнечных блёсток. Голуби порхали около прибрежных деревьев; альпийский орел носился над Леманом.
Прекрасен вид с эспланады соборной церкви. В этом храме, две исторические гробницы тяжело дышат тлением, пятнают частый воздух этих мест памятью о бесконечно горьком событии; это гробницы двух английских изгнанников, из которых один был в числе судей несчастного Карла I, а другой читал ему роковую сентенцию!
Избрали ли они Веве своим приютом, в надежде, что пленительная природа этих мест уврачует, может быть, и gрокаженную совесть? Но есть преступления, где оказывается бессильным целебное свойство природы! Самые красоты Лемана не восстановят души, опустошаемой Немезидой, ежечасным воспроизведением посмертного бесчестия Кромвеля...
Прочь, страшные картины! Отведем душу перед изящной простотой и прелестью храма Св. Клары! Здешняя природа, слава Богу, скоро изглаживает всякое грустное впечатление! Есть исторические догадки, доходящие почти до достоверности, что Веве есть древнее Vibiscum Римлян: мысль о Риме была бы странной аномалией в тихом мире идей, особенно в Веве!
По возобновлении в 1819 году, каждые пять лет празднуется в Веве праздник виноградарей - великолепное торжество, с любопытными старинными обрядами и разного рода увеселениями; в будущем (1839) году опять срок. Жаль, что мне не довелось видеть этот праздник, столь согласный с идиллическим характером Веве.
Собираясь дальше в путь, я еще раз оглядел город, и идея о его особенности сбылась для меня в образе милой горожанки, которая, на своей живописной даче, соединяет в себе всю прелесть сельской простоты с любезностью городской утонченности обхождения.
С любовью уносил я в сердце этот образ, опираясь на страннический посох, которым - на тот раз - был мой зонтик (В 1789 году город посетил Николай Карамзин, в 1821 году и ещё несколько раз потом — Василий Жуковский, который начал в Веве перевод «Шильонского узника» Байрона. В 1836 г. Николай Гоголь работал здесь над «Мёртвыми душами». Пётр Вяземский впервые посетил Веве в 1854 году, приезжал сюда и в 1863—64 годах.
В 1854 году он написал здесь стихотворение «Вевейская рябина», а десять лет спустя, навестив в Веве «свою» рябину, посвятил ей ещё одно стихотворение. Чарли Чаплин и Грэм Грин провели последние годы жизни и умерли в Веве. После похорон тело Чаплина было похищено и затребован выкуп.
В конце концов похитители вернули гроб нетронутым. Его захоронили на прежнем месте под бетонной плитой толщиной в шесть футов. В память о Чарли Чаплине на берегу Женевского озера установлен памятник. Многие годы жила здесь и известная пианистка Клара Хаскил. Её именем в городе названа улица.
В память о ней с 1963 году в Веве проводится Международный конкурс пианистов. В 1916 году в Веве умерли польский писатель, лауреат Нобелевской премии Генрик Сенкевич, здесь он был похоронен (в 1924 году прах перенесен в Варшаву); венгерский композитор Э. Польдини).
Миновав la tour de Peilz я опять очутился в огромном винограднике, не менее печальном того, что по другую сторону Веве. Было очень жарко в тесном пространстве дороги, сжатой, с обеих сторон, высокими стенами. Распахнутый зонтик защищал меня только от едких стрел пламенного Феба; но снизу меня буквально обдавало утомительной духотой.
Миновав la tour de Peilz я опять очутился в огромном винограднике, не менее печальном того, что по другую сторону Веве. Было очень жарко в тесном пространстве дороги, сжатой, с обеих сторон, высокими стенами. Распахнутый зонтик защищал меня только от едких стрел пламенного Феба; но снизу меня буквально обдавало утомительной духотой.
Кисти винограда свешивались со стен, к жестокой жажде прибавляя и муку танталову. С засохшей гортанью, но с бодрым духом, достиг я каменистого потока, называемого Baie de Clarens, осмотрел pнаменитое, но бедное место, где своенравный и во всем странный Руссо раскинул по воздуху свой идеальный Кларан!
По рассказам путешественников, я имел весьма невыгодное мнение об этой деревне, разочаровывающей всех посетителей и потому я был приятно изумлен, найдя нечто лучшее, нежели ожидал! Дома очень сносного вида увиты и увенчаны зеленью, особенно виноградом; есть много садов и огородов! Мальчишки играли на улице; из одного домика раздавалось женское пение. Сельская идиллия поражала воображение.
В Кларане есть трактир, под вывеской: Bosquet de Jule! Боже мой! В Сен-Сафорине меня уже оскорбила торговля розами; а здесь промышляют даже первым поцелуем любви! (?) Улыбнемся этой сметливости; зайдем в трактир и докажем, что порядочный человек может чувствовать себя возвышенно и в оскверненном месте.
Я вошел. В зале внизу сидело несколько поселян за чашей, громко разговаривая о своих политических делах и ожидаемом нашествии французов. Мне отвели, в верхнем зале, чистенькую комнату, с портретом Наполеона. Какие разнородные элементы: Наполеон, первый поцелуй любви и хмельные крестьяне!
Как мне сладить с этими тремя крайностями, привести их к единству, чтобы можно было насладиться боскетом Юлии? Я тотчас нашелся: общее тождество этих спорных сил заключается в таинственном слове: упоение! Упоение славы; упоение любви, упоение вина - и, наконец, упоение мечтательности праздного путешественника! Я погрузился в эту общую гармонию, сидя у растворенного окна и глядя на прекрасное озеро.
Не было ни одного облака на небе; но несколько их засели в ущельях Савойских гор. Приход служанки с моим завтраком отвлек мое внимание от гармонических раздумий. Она была недурна собой, и стоила того, чтобы с ней пошутить. Я именно от нее хотел узнать, как называется трактир?
- Le Bosquet de Jule! Почему так, и что случилось в этом боскет? - Еllе у a baise son amant. - Ah! - воскликнул я, - elle a tres-bien fait! c'est un bel exemple a saivre a l'egard des etrangers qui, pendant cette chaleur, voudraient bien se desalterrr de la meme maniere! Она усмехнулась улыбкой гризеток и отвечала: - Monseur, il у a la de quui se desalterer: le vin est bon! Она сказала правду: вино было, в самом деле, хорошо. Прощай, милый Кларан!
На возвышениях, недалеко друг от друга виднеются замки Блоне, Отевиль (Hauteville Castle) и Шателар. В деревне Верне я увидел в одном саду дикие мирт и лавр. Меня удивила такая находка, по эту сторону Альп. С участием глядел я на нежные растения Юга, решившиеся зимовать под чужим небом.
Я сорвал себе на память листок лавра и до сих пор храню его в бумажнике. Мирт (по преданию, венком из мирта была увенчана Афродита во время знаменитого спора, благодаря чему Парис и отдал ей своё яблоко) я не тронул: я давно уже кончил свои расчёты с миртами. Немного в стороне от Верне, на отлогости лежит знаменитое по целительному климату селение Монтрё (фр. Montreux).
Здесь горы теснятся к озеру, оставляя скудный провал дороги. Выйдешь из теснины и наткнешься на Шильон. Вид этого замка, выходящего из воды, всегда будет изумителен. Вблизи, Шильон готически важен и суров, дыша ужасами минувшего. Это грандиозный, без плана сомкнутый сбор массивных строений, с четвероугольной башней на средине и несколькими башенками по углам. Замок имеет сообщение с берегом, посредством подъёмного моста, который сторожит жандарм.
Я нашел шильонскую даму в саду, со своим мужем. Она снова повела меня в подвалы. Впереди казематы; рядом угол, для арестантов; потом лобное место. Из зала Правосудия (salle de Justice) ведет сюда каменная лестница: до поворота десять, оттуда восемнадцать ступеней прямо вниз. Влево, вокруг столба роковой путь в мрачное углубление стены, где осужденный касался подмостков виселицы, перекладина которой видна и поныне.
Палач всходил с наружной стороны, по придвижной лестнице и опрокидывал голову несчастного в отверстие. По такому устройству лобного места надобно полагать, что приговор исполнялся тотчас по прочтению в судейском зале. Тут и вход в крайней подвал, своды которого опираются на семь колонн воспетых Байроном. Говорят, благородный лорд сиживал здесь взаперти по нескольку часов и набирался мрачных идей для своего умышленного узника, ничего не зная о Бонниваре.
На этот раз подвал, обращенный к западу, был довольно светел от вечернего солнца. Но надо знать, что между колоннами были простенки почти до свода, во всю длину подвала и по бокам, разделявшие это пространство на несколько темниц, где только наверху могло играть слабое отражение дневного света.
В первой из этих темниц, подле входа от лобного места, сидел женевский юноша Котье, который, с согласия своих родителей, явился под чужим именем в Шильон, чтобы каким-либо образом освободить Боннивара. Замысел был раскрыт и юношу посадили в тот же подвал.
После двухлетнего плена, он смог распилить свою цепь колесом своих огромных для тогдашнего времени часов, вышел из темницы, рассказал Боннивару свою историю и новый план к его освобождению, вскарабкался к высокому окну, своею цепью расширил отверстие настолько, чтобы пролезть, и спрыгнул в озеро, надеясь спастись вплавь.
Но беспрестанно меняющийся уровень леманских вод был, в то время, на отливе, и несчастный Котье убился об утес, который служит основанием замку. От этого поврежденного окна падает свет на ту колонну, на которой Байрон вырезал свое имя и повлек за собою тьму подражателей: колонна вся испещрена именами.
Хотя этот подвал действительно до половины высечен в скале, но дно его выше уровня озера. В Шильоне есть еще две темницы, совершенно иного рода, в называемые Oubliettes - местами забвения: это просто колодцы, ужаснейшей глубины! Один из них так глубок, что долго никто не решался спуститься туда, боясь задохнуться.
Наконец нынешняя кастелянша, как сама уверяет, уговорила одного работника отважиться на это сошествие в тартар. Его спустили туда со свечей.
Там он увидел множество человеческих костей и один труп, завернутый в толстый покров: живой сжалился над непогребенным мертвецом, уложил его в свое объятие и бережно вытащил на свет Божий, но наш мертвец рассыпался в прах, от свежего воздуха; остался один саван, от которого нежные ручки парижских и лондонских дам отрывают по лоскутку, на память.
Я не хотел следовать этому примеру; но шильонская дама непременно это потребовала.
Другое место забвения не столь глубоко, но зато имеет историю, еще более ужаснейшую - по крайней мере, в устах кастелянши! До сих пор неизвестно, за какую именно вину ввергали в эти ублиэты. Осужденного усаживали на скамейку, перед образом Богоматери, велели приложиться к святыне - и тотчас, по исполнении этого, дверь роняла несчастного в бездну, где, на середине падения его ожидал перекресток лезвий!
Проезжавший незадолго до меня итальянский монах рассказывал кастелянше, что в Италии, в каком-то феодальном замке, есть такой же ублиэт.
Название ублиэт напоминает персидскую Тюрьму Забвения, о которой говорят византийские историки. Эта тюрьма была в романтическом замке Роз. Под смертной казнью было запрещено произносить имя того, кто ввержен в эту темницу; следовательно, для своих ближних он был болеe мертв, нежели в гробу: усопших, по крайней мере, поминают!
Только единожды, если верить Прокопию - этот строгий запрет был нарушен в пользу пленного армянского царя; это привело к трогательному свиданию с другом и к трагическому концу пленника (?). Феофилакт рассказывает, что, в царствование императора Маврикия, римские военнопленные силой вырвались из этой темницы, преодолели гарнизон и возвратились к римскому войску.
Мой дамский чичероне водил меня по всем четырем дворам замка, по бесконечным переходам. Я видел зал юстиции. В комнате геpцога - la chambre ducale - полинялые следы свидетельствуют еще о прежней роскоши. Герцогининой комнаты я не мог видеть: она была наполнена порохам! Эпиграмма ли это на женское сердце, которое чуть ли не в правду пороховой магазин? В 1838 году ровно шестьсот лет, как граф Савойский - Амедей V принялся строить Шильон.
Обозрение замка заканчивается нарядной комнатой, в квартире кастеляна, над темницей Боннивара. Тут добрая хозяйка напоила меня кофеем, рассказывая имена французских знаменитостей, которых она, в этой комнате, угощала тем же напитком.
Но всего интереснее, что в этой комнате жил, несколько дней Байрон, присматриваясь к местности, прекрасно изображенной в X главе Узника. Окна обращены на озеро, к голубой бездне! Уровень озера стоял глубоко, под этими окнами, волны которого брызжут, во время бури.
В заключение своих рассказов, кастелянша сообщила мне премилую любопытность о Шильоне, высмотренную Байроном: чудная с лазоревыми крыльям птичка Шильонского узника есть - не вымысел поэта, но сущая правда.
Тому несколько лет, как стали замечать, что, в осеннее время, прилетает к шильонскому утесу птичка дивной красоты будто бы неизвестная естественной истории: иногда одна, порою их две-три - таких птичек не видят нигде, кроме Шильона. Можно верить - или не верить ужасному перекрестку лезвий, ужасным ублиэтам; но за чудную птичку, кажется, постоит Байрон: гений не выдумывает подобных диковинок!
Я возвратился в Вильнев, усталый от продолжительной прогулки и множества впечатлений. Кое-как успел набросать беглый очерк всего виденного и сразу заснул мертвым сном.
Вечером следующего дня я уезжал в Италию.
(с незначительными редакторскими правками и сокращениями).
(с незначительными редакторскими правками и сокращениями).